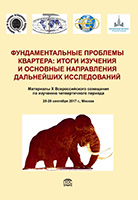| ||
|
| ||
|
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 3Институт криосферы Земли СО РАН, Тюмень
|
|
В 2012 году в береговом обрыве правого берега Енисейского залива была обнаружена частично разложившаяся туша шерстистого мамонта Mammuthus primigenius [Мащенко и др., 2015]. Ценная находка была сделана ненецким мальчиком Евгением Салиндером и названа в его честь – «мамонт Женя». Участок расположен примерно в 3 км к северу от полярной метеорологической станции «Сопочная Карга» на мысе Сопочная Карга, поэтому второе название находки – «Сопкаргинский мамонт». Геолого-геокриологического строение берегов Енисейского залива, в том числе и район мыса Сопочная Карга, является достаточно хорошо изученным. В публикациях последних лет содержатся информация о составе, строении и возрасте четвертичных отложений и подземных льдом района [Стрелецкая и др. 2007, 2012, 2013; Стрелецкая, Васильев, 2009; Гусев, Молодьков, 2012; Гусев и др., 2012; Gusev et al., 2016]. В 2014 году полевой группой Института криосферы Земли СО РАН было выполнено геолого-геокриологическое описание берегового разреза непосредственно в месте находки мамонта. Строение разреза. В береговом обрыве протяженностью 2 км вскрываются отложения второй террасы р. Енисей (рис. 1). На поверхности террасы высотой 12–20 м над уровнем залива с поверхности до глубины 1–2 м залегают плохо и среднеразложившиеся торфа (bIV). В основании торфяного горизонта по обломку древесины определен радиоуглеродный возраст 9050 лет (календарный возраст 10210±70 (ЛУ-6545)), а также радиоуглеродный возраст по торфу 9900±230 лет (календарный возраст 11460±400 (ЛУ-6543)), формирование торфяного горизонта началось около 11 тыс. лет назад. Под торфами залегают слоистые пылеватые супеси и мелко-среднезернистые пески (aIII3-4) мощностью 4–10 м. Нижняя граница песков и супесей неровная и залегает на отметках 2–12 м над уровнем моря. Супеси и пески желто-серые, с корешками растений, с прослоями, гнездами и линзами торфа, горизонтально и косослоистые, с пятнами ожелезнения, мерзлые. Содержание органического углерода достигает 2,0%. Сверху вниз по разрезу количество пылеватых частиц и органических примесей сокращается, супеси переходят в крупнозернистые и гравелистые пески и подстилаются глинами (mIII1). Для уточнения генезиса отложений и условий их формирования методом детального грануло-минералогического анализа песчаной фракции [Сурков, 2000] изучена серия проб из гравийного горизонта на контакте глин и песков (рис. 1). Горизонт диагностируется как русловая фация низовьев крупной реки. Супеси, торфа и пески не засолены. Степень засоления не превышает 0,06%. Среди ионов преобладают гидрокарбонат и натрий ионы. В северной части, представленного на рисунке 1 разреза, под песчано-супесчаной толщей (aIII3-4) обнажается прослои торфа (bIII3), радиоуглеродный возраст которого более 37200 лет (календарный возраст более 42260 лет (ЛУ-6546)). На пляже в основании обрыва найдена кость северного оленя, по которой получен радиоуглеродный возраст 13770±480 лет (календарный возраст – 16690±790 лет (ЛУ-6998)) [Стрелецкая и др., 2013]. Глины (mIII1), подстилающие пески и супеси, темно-серые, плотные, на верхнем контакте со следами ожелезнения, оскольчатые, мерзлые. Видимая мощность глин от 2 до 30 м. Отложения засолены (степень засоления до 1,5%) и по составу воднорастворимых солей диагностируются как морские. Количество органического углерода в глинистых отложениях составляет 0,8–1,0%. Криогенное строение. Криогенная текстура торфов, песков и супесей массивная, реже микрошлировая. Весовая влажность пылеватых супесей составляет 25–60%, крупнозернистые пески с галькой на контакте с глинами содержат уже в несколько раз меньше влаги (12–15%). Супеси и пески второй террасы Енисея вмещают сингенетические полигонально-жильные льды (ПЖЛ) мощностью около 10 м (рис. 1) и шириной 2–3 м в верхних частях жил (на рис. 1 ширина ПЖЛ вне масштаба). Нижние узкие части жил проникают в глины на 0,5–1,0 м, на отдельных участках разреза уходят под уровень моря. Значения изотопов кислорода из льда составили 24–26‰. Льдистость глин (mIII1) меняется по разрезу от льдистых (суммарная весовая влажность которых составляет 30–53%) до сильнольдистых (суммарная весовая влажность которых превышает 130%). Льдистые глины имеют крупно-сетчатую криогенную текстуру. Сильнольдистые глины представляют собой чередование льдогрунтовых прослоев мощностью 10–25 см в разной степени насыщенных минеральными включениями. При оттаивании такие прослои выглядят как пояски и ребра параллельные друг другу или образуют плавные складки. Подробное криолитологическое описание разреза непосредственно в месте нахождения туши Сопкаргинского мамонта сделано в июле 2014 года. Верхняя часть разреза до глубины 4,5 м представлена чередованием супесчаных слоев и торфяных прослоев, с глубины 0,9 м в мерзлом состоянии. Супесь пылеватая серо-коричневого (палевого) цвета с неравномерно-распределенными включениями торфа и мелких корешков растений. Торфяные прослои мощностью от первых сантиметров до 20–25 см коричневого цвета, торф средне- и плохоразложившийся. Верхняя мерзлая часть разреза до глубины 1,4 м характеризуется микрошлировой криотекстурой и наибольшей по разрезу суммарной влажностью (около 66%). Ниже криотекстура песков, супесей и торфа везде массивная с редкими единичными шлирами льда мощностью менее 1 мм. С глубины 4,5 м до 7,4 м залегают пески средне- и мелкозернистые горизонтально и косослоистые, ожелезненные, с равномерно распределенными мелкими включениями веточек кустарников. Слои подчеркиваются различными оттенками серого и серо-желтого цветов и залегают под углом до 30–45° по отношению друг к другу. Граница между песками и вышележащими супесями подчеркнута прослоем песка с гравием и галькой размером от 0,1 до 1–2 см с преобладанием мелких частиц. Мощность прослоя 10 см. Криотекстура песков массивная. Влажность (льдистость) песчаного горизонта практически не меняется (22–25%). На глубине 6 м в 2012 году в данных песках была вскрыта туша шерстистого мамонта. Высокая льдистость (влажность) песков и супесей не меняющаяся по разрезу характерная особенность условий одновременного накопления и промерзавших отложений (сингенеза). Определения радиоуглеродного возраста мамонта составили от 37830±160 (UGAMS-12565) до 44750+970–700 (GrA-57723) [Мащенко и др., 2015; Гусев и др., 2015]. На глубине 7,4–7,6 м гравийный горизонт. Гравий размером от первых миллиметров до 7 см различной степени окатанности с песчаным заполнителем. Ниже на глубинах 7,6–9,1 м выделен слой серо-желтых и темно-серых супесей. На фоне более темных супесей наблюдаются прослойки и затеки более светлого оттенка. В слое встречаются равномерно-распределенные включения органического вещества черного цвета и редкие гальки размером до 3 см. Криотекстура супесей массивная с единичными разнонаправленными шлирами льда менее 1 мм. Нижний горизонт, подошва которого залегает ниже уреза пляжа, представлен глинами коричнево-серым с затеками, пятнами ожелезнения, единичными включениями гальки и черными пятнами органического вещества диаметром менее 1 мм. Криотекстура неполносетчатая. С глубины 9,9 м шлиры преимущественно субвертикально ориентированы. Заключение. Таким образом, на основе имеющихся опубликованных и вновь полученных палеогеографических данных для севера Западной Сибири можно реконструировать прибрежно-равнинные тундровые и лесотундровые обстановки. Сопкаргинский мамонт обитал в каргинское время (МИС 3) в климатических условиях, отличающихся от современных более низкими зимними температурами (на это указывает изотопный состав ПЖЛ) и отсутствием снега зимой (на это указывает размер сингенетических жильных льдов). Быстрое промерзание туши и захоронение в сильнольдистых отложениях на пойме крупной реки позволило хорошо сохраниться мягким тканям мамонта.
Список литературы 1. Гусев Е.А., Крылов А.В., Воронков А.Ю., Никитин М.Ю. Неоплейстоцен-голоценовые моллюски Енисейского севера // Геолого-геофизические характеристики литосферы Арктического региона. Труды ВНИИОкеангеология, 2012. Т. 223. Вып. 8. С. 75-85. 2. Гусев Е.А., Молодьков А.Н., Деревянко Л.Г. Сопкаргинский мамонт, время и условия его обитания (север Западной Сибири) // Успехи современного естествознания. 2015. № 1. С. 423-435. 3. Мащенко Е.Н., Тихонов А.Н., Сердюк Н.В., Тарасенко К.К., Лопатин А.В. Находка трупа самца мамонта в каргинских отложениях плейстоцена Таймыра // Доклады Академии наук. 2015. Т. 460. № 2. С. 242-245. 4. Стрелецкая И.Д., Васильев А.А. Изотопный состав полигонально-жильных льдов Западного Таймыра // Криосфера Земли, 2009. Т. XIII. № 3. С. 59-69. 5. Стрелецкая И.Д., Гусев Е.А., Васильев А.А., Каневский М.З., Аникина Н.Ю., Деревянко Л.Г. Новые результаты комплексных исследований четвертичных отложений Западного Таймыра // Криосфера Земли, 2007. Т. XI. № 3. С. 14-28. 6. Стрелецкая И.Д., Гусев Е.А., Васильев А.А., Облогов Г.Е., Аникина Н.Ю., Арсланов Х.А., Деревянко Л.Г., Пушина З.В. Геокриологическое строение четвертичных отложений берегов западного Таймыра // Криосфера Земли, 2013. Т.XVII. № 3. С. 17-26. 7. Стрелецкая И.Д., Гусев Е.А., Васильев А.А., Рекант П.В., Арсланов Х.А. Подземные льды в четвертичных отложениях побережья Карского моря как отражение палеогеографических условий конца неоплейстоцена - голоцена // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода, 2012. № 72. С. 28-59. 8. Сурков А.В. Новое в изучении песчано-алевритовой компоненты россыпей и осадочных пород (Альтернативная методика). М., Издатель Е. Разумова, 2000. 286 с. 9. Gusev E.A., Molodkov A.N., Streletskaya I.D., Vasiliev A.A., Anikina N.Yu., Bondarenko S.A., Derevyanko L.G., Kupriyanova N.V., Maksimov F.E., Polyakova E.I., Pushina Z.V., Stepanova G.V., Oblogov G.E. Deposits of the Kazantsevo Transgression (MIS 5) in the Northern Yenisei Region // Russian Geology and Geophysics, 2016. Vol. 57. P. 586-596.
|
|
Ссылка на статью:
Стрелецкая И.Д., Гусев Е.А., Васильев А.А., Облогов Г.Е.
Геокриологическое строение четвертичного разреза в месте находки
Сопкаргинского мамонта (Западный Таймыр) // Фундаментальные проблемы
квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований.
Материалы X Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода.
Москва 25–29 сентября 2017 г. – М.: ГЕОС, 2017. С. 402-404. |