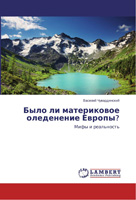| ||
|
| ||
|
|
|
Глава 4. Донской ледниковый язык и Воронежский выступ фундамента Сфера деятельности Донского ледникового языка начинается с субширотного отрезка Нижней Оки и уходит далеко вглубь степных районов Нижнего Дона. Какие геологические следы оставил этот язык? Может они гораздо убедительнее, чем у его собрата - Днепровского ледникового языка?
4.1. Безморенные области Но нас сразу поджидает незадача. Отделившись от самого крупного ледникового покрова Европы - Днепровского и, начав самостоятельный путь, Донской ледниковый язык по непонятным причинам перестал перемещать валуны кристаллических пород и формировать морену. Коллектив московских ученых - Н.И. Кригер, Е.В. Копосов, А.Г. Петров, О.В. Тычина в знаковой статье «Безморенные области» (1985) констатируют, что бассейн Нижней Оки представляет собой безморенную область - территорию, на которой развиты только покровные субаэральные суглинки, лежащие на пермских отложениях. В бассейне рек Мокша и Теша, а также в районе Мурома авторами публикации морена выделяется, но «она имеет характер локальной морены», состоящий из материала татарских отложений перми. По существу эта «морена», как и субаэральные безморенные суглинки Нижней Оки, представляет собой делювиальные образования, сформировавшиеся за счет переотложения выветрелой части подстилающих пермских отложений. Далее к югу, в Мордовии, валуны кристаллических пород по-прежнему отсутствуют, хотя местные ученые - В.Н. Маскайкин и С.И. Рунков (1993) выделяют безвалунную «морену» - делювиальные суглинки с карбонатными конкрециями, которые почему-то выступают в роли ледникового признака. Так в чем же причина отсутствия валунов кристаллических пород в делювиальных суглинках? Почему нельзя получить статус морены без валунов с одними конкрециями? Причину отсутствия валунов Н.И. Кригер, Е.В. Копосов, А.Г. Петров и О.В. Тычина все-таки нашли. Вот что они утверждают в своей статье: «В случае Горьковско-Дзержинской безморенной области можно полагать, что высоты правого берега р. Оки задержали движение нижних горизонтов ледникового покрова, состоявшие из мореносодержащего льда. На данную территорию проникали только слои ледникового покрова, состоящие из более чистого льда». Эта длинная цитата помогает понять ход мысли ученых: крутой правый берег р. Оки стал препятствием для ледника и нижние мореносодержащие слои льда были отсечены от средних и верхних горизонтов ледника, которые как раз состоят из чистого льда. Избавившись от завалуненного мореносодержащего льда, (если он был) Донской язык все-таки преодолел долину Оки и двинулся к югу по Окско-Донской равнине, но уже без валунов, налегке. Конечно, ученые «хотели как лучше, но получилось как всегда». Надо ведь задуматься, почему в долине Оки и у ее крутых берегов нет кристаллических валунов, от которых освободился Донской ледниковый язык. Долина Оки должна быть завалена эрратическими валунами - ведь их запланированный объем был предназначен для разбрасывания на территории деятельности Донского языка. Но валунов нет, пусть ученые теперь доказывают, что их смыли в Каспийское море флювиогляциальные воды, как какой-нибудь тростник или камыш. Кстати, в «Краткой географической энциклопедии» (т. 3, 1962) сказано, что в нижнем течении Оки, ниже впадения Мокши долина реки имеет следующие особенности: «левый берег преимущественно крутой, на правом - низменном, обширные хвойные леса» (с. 148). Не шибко твердые географические знания показывают московские ученые, но сдавать ЕГЭ по географии уже поздновато. Впрочем, если даже теоретически поменять крутые берега Оки, переправа через реку будет для ледника непростой. Его спуск с крутого левого берега Оки в долину реки мог привести к сёрджу, к распаду ледника на блоки льда, с драматической потерей того же пресловутого валуносодержащего нижнего слоя. Надо, однако, отдать должное Н.И. Кригеру и соавторам: развиваемая ими идея об отщеплении мореносодержащего слоя льда - при наличии препятствия в рельефе, по существу правильная, она ранее была обоснована П.А. Шумским и другими крупными гляциологами. В покровных ледниках Гренландии, арктических островов, в Антарктиде все так и происходит - примерзшие к подошве льдов минеральные вещества на неровностях ложа отсекаются и омертвляются. Геологам-четвертичникам надо осознать, что гипотетические ледники, наступающие с Балтийского щита, растеряют примерзшее к их днищу моренное вещество на первых же поперечных тектонических уступах, в скалистых ущельях, глубоких речных долинах, других неровностях коренного рельефа. Правда, вулканический пепел, космическое вещество и эоловую пыль ледники будут переносить, это у них не отнимешь.
4.2. «Гляциотектонические» сооружения на Дону На просторах «безморенной», на этот раз меловой равнины, были открыты и изучены гляциотектонические дислокации. Они расположены близ г. Лиски в среднем течении Дона и получили название Дивногорские гляциодислокации. Краткое их описание приводится в статье И.А. Чистяковой (2013). В меловых отложениях, представленных белым писчим мелом, был заложен карьер глубиной 60 м по добыче мела. В верхней части карьера ученая отметила мелкую складчатость, а на некотором удалении была обнаружена складка с пологими крыльями. Кроме того, меловые породы оказались разбиты системой приповерхностных вертикальных трещин следующих простираний: 1) 230-2700; 2) 310-3300; 3) 175-1800. Подобные трещины обычны для отложений платформенного чехла, но ученая непостижимым образом стала связывать эти трещины с давлением ледника: 1) с давлением ледника с севера (230-2700); 2) с давлением ледника с северо-запада (310-3300); 3) с давлением ледника с запада (175-1800). Ю.А. Лаврушин с соавторами (2013) в этом же карьере выделяет трещины, указывающие на давление ледника еще и с востока. Только южное направление ледникового давления остается вакантным. Устоять невозможно! И белый мел дрогнул, в его толще появились «слабовыраженные горизонтальные отдельности» - как явное давление ледника сверху, победно рапортуют ученые. Вот и все данные, собранные большими коллективами академических и вузовских ученых. Их не интересует, что пликативная складчатость и подобные системы трещин и горизонтальных отдельностей в меловых породах явление ординарное и для областей, которые пока не принято покрывать ледником - например, в толщах белого мела в моей Орловской области (Среднерусская возвышенность). Есть еще важные факты. В контуре карьера - во всем гляциотектоническом сооружении не выявлено эрратических валунов, нет даже просто валунов кристаллических пород, а они непременные атрибуты ледниковой природы дислокаций. Может сведения о валунах кристаллических пород засекречены, законспирированы? Но нет данных и о валунах осадочных пород. И если Донской язык растерял эрратические валуны при неудачной переправе через р. Оку, то проползая по пермским, юрским, девонским и карбоновым отложениям он должен (или не должен?) захватывать их обломки и доставлять к месту заложения гляциодислокаций. Но и этого не произошло. В Каневских «гляциодислокациях» за морену удалось выдать тектоническую брекчию, в Дивногорских «гляциодислокациях» даже таковой не оказалось. Нет ни одного признака причастия ледника к складчатости и трещиноватости в меловых породах Придонья. Если известные геологические факты дополнить данными, собранными творцами Дивногорской гляциодислокации, то можно прийти к следующим выводам: мы имеем дело с заурядными проявлениями складчатой и трещинной неотектоники в породах осадочного чехла. Чем больше будут множить публикаций на эту тему сторонники ледникового учения, тем яснее будут проявляться неотектоническое происхождение дислокаций. Можно подойти к вопросу о Дивногорских гляциодислокациях и сточки зрения мощности льда Донского языка. Давно идет дискуссия о мощности льда Днепровского языка и его напорных действиях в деле возведения Каневских дислокаций. Там фигурирует цифры мощности льда от 100-150 до 300 м в районе дислокаций. Киевский ученый М.Г. Костяной уже давно выполнил и опубликовал работы по математическому моделированию геолого-гляциологических процессов с целью выяснения мог ли Днепровский ледниковый язык произвести Каневские дислокации. «Мог» - ответил М.Г. Костяной, но для этого мощность (толщина) ледника в краевой зоне должна быть равной 4,9 км (!), а необходимые тангенциальные усилия ледника должны быть не менее 4413 тонн на 1 кв.м. Не заметили (или привычно «замолчали») этих смертельных для ледникового учения цифр гляциоактивисты! Толщина льда Донского языка остается в тени, никто не приводит никаких цифр о его мощности. Но все-таки можно попытаться вычислить ее. Мы знаем абсолютные отметки Окско-Донской равнины (по которой «шел» ледниковый язык), они составляют 160-165 м. Ф.Н. Мильков и Н.А. Гвоздецкий (1976) дают цифру 160-180 м. Известно также, что в контуре ледника имелись нунатаки - вершины возвышенностей, по мысли ученых выступавших из-под ледника. А.А. Старухин (1985) указывает на развитие нунатаков в районе Ельца и Задонска, где они приурочены к центральным частям локальных тектонических структур, орографически возвышающихся над равниной. Что за возвышенности, какие их абсолютные отметки? А.А. Старухин прав: в указанном им районе имеются возвышенности с отметкой 234 м (г. Морозова) и даже есть возвышенности высотой 252 и 262 м. Остальные возвышенности - до 293 м находятся в той части Среднерусской возвышенности, которую пока не покрывают ледником. Никто не указывает на сколько метров вершины нунатаков возвышались над ледниковом покровом. Чтобы стать нунатаком нужно хотя бы на 100м подняться надо льдом. Но где взять эти метры? По сей день спорят ученые разных научных школ - были ли нунатаки, а если бы, то достаточно ли они возвышались надо льдом, чтобы уберечь реликтовую растительность от ледяного дыхания Донского языка. Не хотят они прислушаться к ботаникам, которые эту территорию выделили в особый «Северо-Донской реликтовый район», где растительность благополучно произрастала во время оледенения. В любом случае, при отметках ложа ледника 160-180м и высоте возвышенностей 234, 252 и 262 м толщина ледника еле достигает жалких 60-80 м. Это будет просто фирн, в лучшем случает мертвый лед. Ученые ищут выход из тупика. Так профессор Ф.Н. Мильков в книге «Основные проблемы физической географии» (1967) выдвинул теорию о сплошном перекрытии - погребении поверхности Донского языка сначала «моренным» веществом, а затем земляным покрывалом. Зачем? Чтобы уберечь русскую лесостепь с ее широколиственными лесами и живописными степями от «холодного дыхания ледника». Вот что пишет ученый на с.179 своего труда: «на поверхности ледника путем вытаивания внутренней морены образовался земляной покров…, полностью скрывавший ледниковое тело». Опираясь на эту «ледниково-земляную» теорию Ф.Н. Милькова, можно полагать, что когда язык дошел до Нижнего Дона, «земляной покров» на леднике преобразовался в знаменитый тучный воронежский чернозем. Это очень рациональная теория. И ледник цел и, будучи утеплен плотным земляным покрывалом, он не посылал свое жутко-ледяное дыхание на цветущие лесостепи и степи Придонья. Но профессор не учел двух моментов: 1) в покровном леднике нет внутренних, а равно других, морен. 2) если уж допускается сильное всепланетарное похолодание и утверждается ледниковый период, то никакого спасения местечковые земляные одеяла принести не могут.
4.3. Валуны кристаллических пород на равнинах Придонья Удачное словосочетание Н.И. Кригера с соавторами - «безморенная область» квивалентна понятию «безвалунная область», так как валуны кристаллических пород на поверхности равнины и в четвертичных отложениях это один из главных критериев оледенения страны. Отсутствие таких валунов - безрадостный признак для приверженцев ледникового учения. Донской ледниковый язык в этом отношении подкачал. Но не все так печально, есть-таки валуны в отдельных районах Воронежской области - в ее восточной и южной части. Здесь на обочинах проселочных дорог, на полях, в выемках и оврагах фиксируются валуны и глыбы кристаллических пород. Можно сказать, юго-восточная часть Воронежской области не обделена валунами и глыбами - это как раз «валунная область». Каков состав и размеры этих валунов, имеют ли они рудную минерализацию и каково их процентное содержание в четвертичных отложениях? Эти вопросы неизбежно возникают у геолога, желающего подробней ознакомится с таким явлением как крупные глыбы кристаллических пород в преимущественно безвалунном крае. Но увы! Публикации по этим вопросам крайне скудны. Размеры глыб и валунов иногда указываются - почвовед М.С. Цыганов (1969) писал о глыбах 1,5-2 м, но не сообщил об их петрографическом составе. Но и геологи-четвертичники тоже не стремятся излишне распространяться о составе глыб-валунов. Так геологи Ю.Ф. Дурнев и В.С. Аграновский ограничиваются терминами «валуны кислых пород», «валуны изверженных основных пород». Изредка дается и некоторый состав валунов - граниты, гнейсы, габбро. Еще слабее подход к изучению валунов у вузовских и академических ученых, они обычно ограничиваются терминами «ледниковые валуны», «эрратические валуны», «валуны принес ледник», «валуны кристаллических пород». Таковы скудные сведения, какие я мог почерпнуть в публикациях сторонников ледникового учения. Но, к счастью, большая работа по изучению кристаллических пород Воронежского выступа фундамента проведена геологами и геофизиками производственных геологических организаций. Они разбурили интрузии основных-ультраосновных пород указанного выступа фундамента в восточной и юго-восточной части Воронежской области и открыли крупные месторождения медно-никелевых руд. Результаты их замечательных исследований - это опора для четвертичников, до сих пор привыкших считать своей опорой ледник. Вкратце изложу основные материалы и результаты геологических исследований геологов и геофизиков по этому району. Наибольший вклад в поиски и разведку воронежских недр, открытие рудных месторождений внесли Н.М. Чернышов, Е.В. Серебряков, В.И. Жаворонкин, Л.Н. Гриненко, В.А. Бочаров, другие исследователи. В восточной части Воронежского кристаллического массива бурением и геофизическими работами выявлено большое количество крупных и более мелких массивов основных и ультраосновных пород (рис. 9). Все они залегают под осадочным чехлом на глубине порядка 100-150 м. Эти интрузии относятся к раннепротерозойской дунит-перидотит-габбро-норитовой формации; вмещающими породами являются различные архейские гнейсы, гнейсо-граниты, нередки гранитные интрузии. Массивы основных-ультраосновных пород несут сульфидную минерализацию, с ней связано ряд рудопроявлений медно-никелевых руд и крупные месторождения медно-никелевых и никелевых руд. По данным Н.М. Чернышова, Л.Н. Гриненко, Е.В. Серебрякова, В.И. Жаворонкина (1988) медно-никелевые месторождения принадлежат к двум геолого-генетическим типам: медно-никелевым в ультрамафитах (мамонский тип) и существенно никелевым в норитах (еланский тип). Представляет большой интерес особенности сульфидной медно-никелевой минерализации - отличной от известных медно-никелевых месторождений на Балтийском щите: высоким содержанием сульфидной фракции, преобладанием пентландита (в том числе кобальт- и серебросодержащего) над халькопиритом, широким развитием платиноидов, высоким содержанием никеля при резком (до 2-х порядков) преобладания его над медью и кобальтом.
4.4. Задачи изучения состава валунов Почему дается достаточно подробная характеристика рудовмещающих пород и особенностей минерализации медно-никелевых руд в интрузиях Воронежского кристаллического выступа фундамента? Они даются для пользы четвертичников, для того чтобы они могли понять, что валуны и глыбы основных и ультраосновных пород (а равно гнейсов и гранитов) происходят из докембрийских пород фундамента, залегающего здесь же под маломощным - 100-150 м осадочным чехлом. В Воронежской области докембрийские породы фундамента выходят на поверхность в районе городов Павловска и Богучар. Валунно-поисковые работы - с целью изучения состава валунов и поисков в них медно-никелевой минерализации и оруденения, следует провести на территории востока и юга Воронежской области - районах широкого развития массивов основных и ультраосновных пород. Цель - корреляция состава и рудной минерализации валунов с интрузивными породами Воронежского выступа фундамента. Пока что рудоносные интрузивные породы хорошо изучены только в коренном залегании - это перидотиты, габбро-нориты, нориты, дуниты, габбро-диориты. Валуны же практически не изучены, и если в четвертичный отложениях и на поверхности дочетвертичных отложений будут найдены валуны и глыбы этих же пород, станет ясно, что они происходят из таких же пород Воронежского выступа фундамента, а вовсе не перенесены ледником из Швеции и Карелии, как думают четвертичники. Сильным дополнительным аргументом в пользу происхождения валунов и глыб именно из Воронежского выступа фундамента, перекрытого осадочным чехлом, будет обнаружение в валунах-глыбах сульфидного медно-никелевого орудения. Автором уже рассматривалась проблема выведения валунно-глыбовых брекчий из пород фундамента по разломам на дневную поверхность. Была показана решающая роль неотектонических разломов сдвигового типа в этих процессах (Чувардинский, 1992, 2001, 2002). Дополнительный материал к подтверждению подобных процессов дает анализ материалов по Воронежскому кристаллическому массиву. По материалам геофизических, буровых и геологических исследований фундамент и чехол Воронежского выступа разбит системой разломов широтного, меридионального, субширотного и других простираний (рис. 9). Не вдаваясь в дискуссию о времени заложения систем разломов, отметим, что согласно исследованиям А.Т. Шевырева (1985), эти разломы (или значительная часть их) испытали активизацию на неотектоническом этапе. Движения по разломам продолжаются и ныне, о чем свидетельствуют зафиксированные в зонах сочленения разломов эпицентры слабых и средних по магнитуде землетрясений (Ананьин, 1968; Шевырев, 1985). Учитывая неглубокое залегание фундамента, можно полагать, что приразломные клинья и блоки, тектоническая брекчия основных и других пород фундамента выводились по сдвигам и взбросам на поверхность. Становится понятной «избирательная» концентрация валунов основных пород в «серой морене» - а валунов гранитоидов - в «красной»: на участках пересечения разломом крупного массива основных пород на поверхность по приразломным взбросам (или сдвигам со взбросовой составляющей) выводились блоки и брекчия пород, слагающих массив. Такой же механизм выведения на поверхность пород фундамента действовал и в разломах-сдвигах и взбросах, секущих гранитоиды. Однако, если массивы интрузивных пород малы по размерам и если горизонтальные смещения внутри приразломно-шовных зон сдвигов преобладают над вертикальными, вынос пород фундамента на поверхность может произойти не над массивом, а гораздо дальше и преобладать в тектонической брекчии будут не породы массива, а вмещающие гранитоиды или гнейсы. Ю.Ф. Дурнев и В.С. Аграновский (1985) выделили два типа морены - красную с валунами кислых пород и серую морену, эрратические валуны которой представлены интрузивными породами основного состава. Выявленное загадочное избирательное распределение валунов малореально связывать с ледниковой синергетикой в области петрографии, но эти явления вполне объяснимы с точки зрения тектонического происхождения валунов. Напомним, кристаллические породы, давшие валуны кислого и основного-ультраосновного состава, участвуют в строении Воронежского выступа фундамента и лежат на глубине порядка 100-150 м. Прежде чем перемещать за 2000 км валуны основных и ультраосновных пород с Балтийского щита следует обратить внимание, что по данным геологов еще более широко, чем на щите, эти породы развиты в нижележащем фундаменте, где выявлены многочисленные массивы габбро-норитов, норитов, норит-диоритов, перидоритов, габбро-диоритов, базит-гипербазитов. Исключительно важными в деле познания тектонического транспорта глыб и валунов будет являться минералогический анализ сульфидного медно-никелевого оруденения в валунах и глыбах (если их удастся обнаружить в ходе валунных поисков) и сопоставление их с медно-никелевыми рудами мамонского и еланского типов.
4.5. Почему засекречена толщина льда в Донском языке? Уже после написания данной главы удалось достать книгу Б.В. Глушкова «Донской ледниковый язык» (2001). До сих пор при работе над главой я изучал только статьи разных авторов (исключение составляют монографии Ф.Н. Милькова, но его работы сугубо географические). И вот монография о загадочном Донском ледниковом языке и о его не менее загадочной геологической деятельности. Ни в одной из публикаций я не мог найти сведений о таком важном показателе как мощность (толщина) Донского ледникового языка и с надеждой обнаружить эти данные стал штудировать книгу Б.В. Глушкова. Но увы, изучив ее содержание, я оказался у того же разбитого корыта: нигде, хотя бы приблизительных данных о толщине льда, и этот ученый не приводит. В пухлой книге не нашлось места для этих ключевых показателей. Ученые охотно и смело оперируют мощностью Скандинавского ледникового покрова, который якобы имел «точно установленную» толщину - 4 км, но старательно обходят вопрос о толщине льда Донского языка. Редактор книги и видные ученые, входящие в редколлегию «Вестника Воронежского университета», а также ученые научно-исследовательского Института геологии, в чьих трудах (выпуск 5, 2001 г.) издана эта книга, не проявили никакого интереса к толщине «своего» Донского ледника. Благополучно защитил Глушков и диссертацию «Донской ледниковый язык» - никто не задал вопроса о толщине ледника. Видимо решили, раз язык большой - доходит до низовьев Дона, то и толщина достаточная. К чему заострять на ней внимание!
4.5.1. Нунатаки Но все же надо отметить и положительные стороны книги, надо отдать должное ее автору: Б.В. Глушков приводит ценнейшие данные о наличии нунатаков внутри безбрежного Донского ледникового языка, и, главное, наносит местоположение нунатаков на «гляциогеоморфологические схемы» (рис. 6 и рис. 77 в его книге). Всего он выделил 14 нунатаков - от крупных до сравнительно небольших, их основная масса расположена в центральной части ледникового языка на территории между реками Дон и Воронеж в области Воронежско-Донского сектора ледникового языка. Бассейн верхнего Дона и среднего течения р.Воронеж - это Донское царство загадочных природных образований, давших приют реликтовым видам растений. Что Б.В. Глушков понимает под термином «нунатак»? Видимо для твердости он везде пишет это слово с удвоенной буквой «н» - «нуннатаки». По Глушкову «нуннатаки» - это возвышенности внутри ледникового покрова, не покрывавшиеся ледником. Ранее краткие сведения от нунатаках Донского ледника приводили А.А. Старухин, Г.В. Холмовой, но они не показали их местоположение на картах или схемах. Итак, царство нунатаков располагается в бассейне верхнего течения р. Дон и бассейне среднего течения р. Воронеж - фактически в центральной части Донского ледникового языка и по мысли Глушкова, других ученых, эти нунатаки не покрывались льдом в течение всей эпохи максимального «донского» оледенения. Такое неоледенелое состояние нунатаков требуется ледниковому учению для объяснения сохранения - произрастания на нунатаках, богатой реликтовой флоры. Нунатаки в виде одиноких возвышений как-то виднелись над бескрайними массивами льда. Привязка 13 нунатаков к отдельным, изолированным возвышенностям этого района Придонья и их местоположение на схемах Б.В. Глушкова дают возможность определить толщину льда центральной части Донского ледникового языка. Уже упоминалось (и это нелишне повторить), что абсолютные отметки Окско-Донской равнины в целом лежат в пределах 160-180 м, над уровнем моря, а отдельные изолированные возвышенности, ставшие нунатаками, в пределах этой равнины имеют высотные отметки 262, 252, 234 метра над уровнем моря и меньше. Относительные превышения их над Окско-Донской равниной составляют порядка 60-90 м, а ледниковое ложе и нижний слой ледника находились на отметках от 160-180 м и до 200-250 м. И это при условии принятия самого малого возвышения нунатаков над массивами льда. Стало быть, толщина льда могла составлять самую жалкую величину - порядка 60-80 м (что соответствует расчетам и по данным о наличии нунатаковых полей и по другим авторам). Такая толщина льда соответствует толщине неподвижных фирновых полей. Или, если применить известный термин Е. Гернета, это будут «ледяные лишаи», не способные к движению. Можно, конечно, увеличить толщину льда на сотни метров или, при желании, до километра, но тогда о нунатаках надо забыть, жалкой их высоты ни на что не хватает. А можно увеличить возвышения нунатаков над поверхностью ледника, вообще сведя на нет его толщину. Но кто пойдет на это? Может ученые сами еще раньше пришли к таким мизерным величинам толщины Донского ледника - 60-80 м, и по этой причине предпочитали вообще не упоминать о мощности льда? Нет таких показателей, как мощность льда, зачем они нужны, ледник был и все! - возможно так рассуждали они. Донской ледниковый язык «еле можаху» перебрался через р. Оку, растеряв свой «мореносодержащий слой льда», и вошел в царство нунатаков. Вот здесь бы и оставить ледник в покое, но ученые, все погоняют и подстегивают «загнанную лошадь», им надо, чтобы ледник дошел до означенной южной границы оледенения (а до ней еще более 250 км по пересеченной местности). Может вообще лучше отказаться от такого привычного понятия как Донской ледниковый язык? Тогда отпадет, неразрешимая при оледенении, проблема произрастания на Верхнем Дону богатой реликтовой неогеновой флоры. Не надо будет заселять ею нунатаки, едва возвышающиеся над безбрежным ледниковым покровом. Не надо будет разводить райские кущи в зоне хионосферы - в зоне круглогодичных вечных снегов и вечного жуткого ледникового мороза. Но нет, ученые никак не могут допустить и мысли об отсутствии ледникового периода, давно уже ставшего большим научным подспорьем. И не на вершинах возвышенностей произрастала (и произрастает) эта реликтовая флора, а на кручах долины Верхнего Дона и ее притоков; возвышенности - это вотчина дубрав и ковыльных степей.
4.5.2. Снова безморенные области Вторая тема, затронутая в книге Глушкова, это «безморенные области» в контуре Донского ледникового языка. Ученый творчески подошел к открытию Н.И. Кригером с соавторами обширной безморенной, безвалунной области в бассейне нижнего течения р. Оки и развил идеи Кригера уже на площади деятельности Воронежско-Донского ледникового сектора («правого сектора» Донского языка). Литологический облик морены «правого сектора» был уже давно потерян и вместо необходимых для морены валунов кристаллических пород в этом секторе были лишь редкие обломки, валуны и глыбы местных осадочных пород - обычные продукты разрушения осадочных толщ платформенного чехла. Но для утверждения ледника и этого оказалось достаточно. В своей книге ученый развивает мысль, что ледник далеко не всегда обязан откладывать морену и переносить валуны кристаллических пород и, кроме того, на безморенных территориях правого ледникового сектора имеются «гляциодислокации» в осадочном чехле, а это ведь, дескать, надежнейшие, неоспоримые следы деятельности ледника. Для объяснения существования «безморенности» ледниковых областей Придонья Глушков привлекает и теоретические разработки московских ученых во главе с Н.И. Кригером. Об этих теоретических установках я уже писал в начале данной главы, но небезынтересно вернуться к этой плодотворной «безморенной» теории. Вот что пишет о ней Б.В. Глушков: «Как считает Н.И. Кригер (Кригер и др. 1985), к отсутствию морены могла привести задержка препятствием (долинной реки, оврагами и т.п.) нижних мореносодержащих (моренонасыщенных) слоев льда, утрата их на препятствии и замена более чистыми слоями льда, которые имели в себе очень небольшое количество дальнепринесенного материала». Да, ученые правы. Путь ледника не усыпан розами, нередко и совсем некстати в рельефе встречаются препятствия, особенно коварны речные долины, лежащие поперек движения ледника. Преодолевая их ледник вынужден растерять валуны - мореносодержащие (придонные) слои льда отсекаются и омертвляются - их замещают верхние, сравнительно чистые горизонты льда и ледник снова движется к означенной границе оледенения. Сколько таких нехороших долин на пути ледника из Скандинавии? Сколько глубочайших тектонических ущелий, высоких поперечных тектонических уступов в кристаллических породах, сколько тектонических грабенов в пределах Балтийского щита? Не счесть. Да и Восточно-Европейская платформа не подарок. Как пишет Кригер с соавторами, только переправа ледника через р. Оку привела к драматической потере мореносодержащего слоя ледника. Сколько забот с этим покровным ледником, ну не под силу ему переместить валуны даже на самое короткое расстояние: постоянно мешают ему то долины, то озерные котловины, а тектонические ущелья и тектонические уступы на Балтийском щите просто непреодолимы, много хуже, чем линия Маннергейма! Может поборникам ледниковых идей перейти на горные ледники? Они на своей спине действительно переносят глыбово-обломочный материал, падающий на ледник с крутых нависающих горных склонов. И о «гляциодислокациях» в Придонье, которые Глушков считает яркими следами мощной деятельности Донского языка в «безморенных областях». Эти «гляциодислокации» - обычные приповерхностные неотектонические структуры, развитые как в «ледниковых», так и во внеледниковой зонах Русской равнины. Тектонический механизм их формирования подобно рассмотрен и убедительно доказывается в капитальной монографии Р.Б. Крапивнера «Бескорневые неотектонические структуры» (М: Недра, 1986). Глушкову эта книга или незнакома, или он привычно «замалчивает» ее, уберегая ледниковую систему от критики. В заключении приведу некоторые примеры развития бескорневых неотектонических дислокаций в платформенном чехле «внеледниковой зоны». Большое количество приповерхностных бескорневых дислокаций в Среднем и Нижнем Поволжье (и в том и другом случае во внеледниковой зоне) изучено В.В. Бронгулеевым (1961). Складчатые и разрывные бескорневые дислокации известны в бассейне р. Мал. Цивиль (Чувашия), у Тетюшей на Волге, в бассейне р. Улемы (Татария), на р.Карла (Татария и Чувашия) в Самарской, Ульяновской областях, в бассейне среднего течения р.Урал и в ряде других районов. И все это «внеледниковые» области. Известны бескорневые дислокации в Донбассе (Голубев, 1970), во внеледниковой зоне Западной Сибири (Генералов, 1983). Дислокации, описанные В.В. Бронгулеевым, развиты непосредственно с поверхности и проникают в чехол на глубину 20-40 м, реже до 70 м. Ширина дислокационных зон достигает 1-1,5 км, протяженность до 7 км. Дислокации «внеледниковых» районов являются аналогами «гляциодислокаций» развитых в областях мифических оледенений, те и другие имеют неотектоническое происхождение.
4.6. Ледниковое дыхание и реликтовая растительность В центре Русской равнины расположена Среднерусская возвышенность. Её абсолютные отметки невелики - до 293 м, но льды максимального (рисского, днепровского) оледенения чудесным образом не перекрыли ее, а лишь обложили с трёх сторон. Многие географы и ботаники, в связи с этим, стали рассматривать эту возвышенность как огромное убежище широколиственной и другой растительности от недоброго воздействия страшного покровного ледника. Но все оказалось не так просто. От влиятельных сторонников ледникового учения на совещаниях, в научных публикациях исходило директивное указание: никаких широколиственных лесов, никаких степей и лесостепей на Среднерусской возвышенности не было и быть не могло, там царила перигляциальная обстановка и сопутствовавшая ей арктическая тундра. Но некоторые географы и ботаники все же продолжали приводить фактические данные о произрастании именно широколиственных пород и даже древних реликтовых растений на этой обширной территории. Они, хотя и очень осторожно, доказывали, что на Среднерусской возвышенности, в основном, сохранились те же ландшафты что и ныне - смешанные леса, лесостепи и степи, а сами растительные ассоциации были сформированы еще в начале четвертичного периода и благополучно пережили страшную ледниковую эпоху на месте. Наиболее полно эта точка зрения освещена в трудах Ф.Н. Милькова, в частности, в его монографии «Основные проблемы физической географии» (1967). Но активы крупных научных коллективов настаивали на признании их концепции, как единственно верной и теория об арктическом климате на возвышенности, окруженной ледником, стала господствующей. Была выдвинута гипотеза миграции - бегства от холодного дыхания ледника, древесной и травянистой растительности: лесной, лесостепной и степной, переселение её далеко на юг, в теплые страны. А уж потом, через сотни тысяч лет, после окончания ледникового периода, эта растительность двинулась в тысячеверстный путь назад, на места своего прежнего произрастания, на Среднерусскую возвышенность.
4.6.1. Северо-донской реликтовый район К счастью, природа при внимательном к ней отношении, сама подсказывает ответ - были ли покровные оледенения или это научные заблуждения, перешедшие в религиозную стадию. Главная роль в решении этой проблемы отводится реликтовым растениям, которые сохранились с третичного времени - с неогена, и до сих пор произрастают на Среднерусской возвышенности и на равнинах Придонья, причем невзирая на Донской ледниковый язык, якобы перекрывавший эти равнины. Три четверти века назад ботаник Б.М. Козо-Полянский назвал Среднерусскую возвышенность «страной живых ископаемых» по причине произрастания на ней большого количества видов реликтовых растений, ведущих свою родословную с третичного времени и никуда не бежавших от ледника и его жуткого ледяного дыхания. Особое внимание видного ботаника привлекли сосновые ландшафты. Он писал: «В области Средне-Русской возвышенности, где имело место трехстороннее обложение ледником, сосна тогда уцелела на известняках» (Козо-Полянский, 1931). В «стране живых ископаемых», наряду с обычными видами древесной и травянистой растительности, произрастают следующие виды реликтовой растительности: сосна меловая, формирующая сосновые боры на породах белого мела и известняках, кустарник волчеягодник Софьи, а также проломник мохнатый, зубянка алаунская, хризантема Козо-Полянского, шлемник Хитрово, роза куйманская, кизильник алаунский, береза Голицына, ястребинок голицынский. Но наибольший интерес для решения вопроса об оледенениях представляют реликтовые растения Придонья - области, которую принято покрывать ледником. Рассмотрим ключевой «Северо-донской реликтовый район», как его назвали ботаники Н.П. Виноградов и С.В. Голицын (1958). «Северо-донской реликтовый район» расположен в верхнем течении р. Дон - ниже его правого притока р. Красивая Меча, и в низовьях р. Сосны, тоже правого притока Дона. Район занимает восточную часть склона Среднерусской возвышенности и северо-западную часть Донской равнины. Река Дон и её притоки в этом районе пересекают девонское известняковое плато, местами глубоко врезаясь в девонские породы и образуя ущелеобразные долины. Вот на этих крутых склонах речных долин и произрастает реликтовая травянистая растительность; участки с этой степной и луговой растительностью объединены в заповедник «Галичья гора». Ее история поучительна. Как сообщают А.Я. Григорьевская и В.Н. Тихомирова (1989), в 1882 году профессор Московского университета В.Я. Цингер и ботаник Д.И. Литвинов на крутом правом берегу Дона, выше г. Задонска, в урочище Галичья гора обнаружили необычайно богатую флору, встретили множество видов «загадочных» растений. Это были реликтовые растения, основные ареалы произрастания которых находятся в южных степях. После публикаций о реликтах Галичьей горы, этот район стал усиленно изучаться ботаниками и географами, которые подтвердили данные о произрастании реликтовых видов травянистой растительности на Галичьей горе и открыли подобные реликтовые ассоциации на других участках долины Дона и по притоку Дона р. Сосна. Наибольший вклад в дело изучения реликтов, кроме В.Я. Цингера и Д.И. Литвинова, внесли Б.М. Козо-Полянский, И.П. Виноградов, С.В. Голицын, Ф.Н. Мильков, В.И. Хитрово, К.В. Скуфьин и ряд других ученых. В результате этих работ места произрастания реликтовой флоры были объединены в заповедник Галичья Гора. Ныне в заповедник входят следующие участки р. Дон: Галичья Гора, Морозова Гора, Быкова Шея, Плющань, а по р. Сосна - Воронов Камень и Воргол. Как сообщают А.Я. Григорьевская и В.Н. Тихомирова, «особую ценность представляют уникальные скальные группировки растений на Галичьей и Морозовой горах, а также на скалах по Ворголу. Здесь в изобилии встречаются шиверекия подольская, преимущественно на хорошо освещенных участках, а вместе с нею - молодило русское, бурачок Гмелина, колокольчик круглолистный, тимьян известняковый (только на Ворголе), крупка сибирская и др. В тенистых трещинах скал растут крайне редкие виды папоротников - костенец постенный и волосовидный (второй - только по Ворголу)». Не менее уникальная реликтовая флора выявлена на участке Плющань, ниже впадения в Дон р. Красивая Меча. По сообщению указанных авторов здесь произрастают следующие реликты: дендрантема Завадского, сердечник трехраздельный, осока притуплённая. А в целом «ботанический феномен» заповедника Галичья Гора состоит в том, что здесь на фоне зональных типов растительности - дубрав и луговых степей - встречаются редкие и уникальные для данного ботанико-географического региона и, даже провинции, растительные сообщества и группировки, причудливым образом сочетаются различные эколого-фитоценотические и генетические элементы многих реликтовых видов. Большинство ученых признают, что большое количество видов травянистых растений несомненно является реликтами неогена, но они - эти реликты никак не могли здесь произрастать в ледниковое время. По мнению ученых, спасаясь от ледника, эти реликты вместе с обычными четвертичными видами - деревьями и травами «бежали» в южные, теплые края - на Кавказ, в Крым и даже за моря, а затем, после таяния ледника через много сотен тысяч лет эта разнообразная флора вернулась назад, в места прежнего произрастания. Вот как подводят А.Я. Григорьевская и В.Н. Тихомирова итоги победы ледниковой теории и теории бегства и возвращения реликтовой растительности в капитальном томе «Заповедники Европейской части РФСФР» (1989): «Сейчас споры ведутся в основном по поводу возраста этих реликтов, но уже общепризнано, что возраст их различен. Вряд ли можно допустить, что какие-либо формы могли здесь, на месте, сохраниться с неогена и пережить максимальное покровное оледенение. Вероятно, такие виды, как эфедра двухколосковая, костенцы стенной и волосовидной, лапчатка бедренцевидная, шлемник приземистый, сердечник трехраздельный (зубянка тонколистная), дендрантема Завадского, голокучник Роберта, истод сибирский и другие, появились на Среднерусской возвышенности разными путями по мере отступания ледника и представляют собой реликты различных послеледниковых эпох. Как правило, они связаны со специфическими субстратами, особенно с обнажениями чистого известняка, и не встречаются ни в степях на плакорах, ни в дубравах, т.е. в коренных типах современного растительного покрова». И далее: «В заповеднике сосредоточены самые крупные близ северного предела их ареала процветающие популяции шиверекии подольской, лапчатки бедренцевидной, шлемника приземистого, рябчика русского, оносмы простейшей, костенца стенного, ломоноса цельнолистного». Уникальнейшие территории по насыщенности реликтовыми видами третичного (неогенового) периода - заповедник «Галичья Гора», его реликтовая флора, продолжает изучаться ботаниками, но так и не решен вопрос был ли ледниковый период? Ученым - сторонникам ледникового учения, очень удобно манипулировать переселением реликтовых (и других) растений, «бегством» их далеко на юг а затем «после окончания ледникового периода» возвращением на прежнее место. Они не хотят знать, что на южных территориях плотно произрастает своя, характерная для этих широт растительность и что для «ледниковых беженцев» земли просто нет. Что касается лесостепной зоны, в пределах которой выявлены изолированные ареалы реликтовой растительности, то надо понимать, что формирование лесостепи происходило в четвертичное время и четвертичная растительность - прежде всего дубовые и вообще широколиственные леса, энергично занимали плодородные земли, оттесняя на неудобья архаичную третичную растительность. Эволюция! Неогеновые реликты - это «пенсионеры» растительного сообщества, им приходилось занимать непродуктивные земли, со скелетными почвами, селиться на меловых породах, на известняках, на крутых каменистых склонах. Снова цитирую авторов статьи о Галичьей Горе: реликты «связаны со специфическими субстратами, с обнажением чистого известняка, и не встречаются ни в степях на плакорах, ни в дубравах, т.е. в коренных типах современного растительного покрова». Так оно и есть, и мы должны быть благодарны реликтовым видам растительности - этим представителям древней живой природы, что они сумели выжить на землях, непригодных для элитных представителей лесного широколиственного царства - дубов, кленов, вязов, лип, а также ковыльных степей.
4.6.2. Ледниковые убежища, другие окололедниковые гипотезы Вопрос о перекрытии района заповедника Галичья Гора ледниковым языком считается неподлежащим сомнению. Если походить к проблеме со стороны гипсометрии, то ледник должен перекрывать всю эту территорию. Так абсолютная отметка уреза воды в р. Дон - у впадения в него р. Сосна составляет 104 м (Россолимо, 1953), а поскольку крутые донские берега достигают здесь высоты 80-90 м, то абсолютные отметки данной территории составляют порядка 180-200 м, а отдельные пологие холмы в этом районе возвышаются до 234, 252 и 262 м. Эти возвышенности, по мнению ряда географов и ботаников были ледниковыми убежищами (нунатаками), где и сохранились реликтовые виды растительности. Представителям этой научной школы арктическое дыхание ледника, стало быть, показалось никчемным, но они избегают называть цифры (в метрах) насколько возвышались эти нунатаки над ледником. Назовешь 50-100 м - настолько же уменьшились - сведешь на нет и без того жалкую толщину ледникового языка (она определяется 70-80 м). А с другой стороны, нунатаки все же должны возвышаться над льдом хотя бы на несколько лаптей из липового лыка. Но сколько убежищам не возвышайся над льдом, райских кущ не будет. Это хорошо понимал профессор Воронежского университета Ф.Н. Мильков и поэтому он выдвинул идею об образовании на поверхности Донского ледникового языка особого «земляного покрывала» способного защитить окружающую среду от невыносимо холодного дыхания ледника (Мильков, 1967, с.173). В четвертичной геологии и геоморфологии широко используется концепция бульдозерного ледникового эффекта, когда ледник действует мощным напором, вгрызается в платформенные породы, отторгает гигантские отторжены. Но для того, чтобы сформировать «земляное покрывало» - накрыть им поверхность ледника теплым слоем земли надо вводить еще один ледниковый эффект - экскаваторный. Но главную научную школу даже такая теория нунатаков не устраивает, представители школы берут на вооружение теорию «бегства» растений, в их числе и «бегства» многочисленных реликтов, далеко на юг, в теплые края и заморские страны. Реэвакуация растений на прежнее место произрастания и прописки должна была иметь место через сотни тысяч лет, когда максимальное оледенение Европы растает. Как происходило это возвращение, не была ли препятствием тундровая растительность, которая основательно заняла Среднерусскую возвышенность? Ученые пишут: возвращение происходило «разными путями, по мере отступания ледника». Зачем уточнять миграционные маршруты - пути разные, но всегда хорошие! Но как бы то ни было, возвращение домой лучше, чем бегство от ледника. Хотя теория «бегства» (быстрой миграции на юг) зародилась на Западе, наши ученые, как обычно, подхватили ее и стали усердно популяризировать. Вот как внедряет в науку эту скопированную концепцию советский ботаник Г.И. Дохман в книге «История растительности СССР» (1938): «растения, гонимые волнами холода, двинулись к югу, ища там убежища от холодного дыхания ледника. Движение на юг этим растениям было преграждено высокими горами…» Идеи дохманизма развивает советский академик А.А. Гроссгейм (1960) в своей книге «В горах Талыша»: «Далеко на севере разыгрывается потрясающееся событие ледникового периода: земля одевается льдом, происходит гибель и массовое «бегство» и отступление на юг деревьев и трав». А почему землю сразу не «одеть одеялом», как это делает профессор Ф.Н. Мильков? Трудно сказать, почему ученые наделяют деревья и травы способностями, свойственными диким, быстроногим животным. Звери кочуют в пределах своей, или смежных ландшафтных зон, но они вовсе не срываются с привычных мест обитания, не мигрируют в полупустынные области. Еще не будучи академиком, но уже являясь знатоком флоры Кавказа, А.А. Гроссгейм имел смелость опубликовать результаты своих исследований, которые могли бы по новому трактовать палеогеографию четвертичного периода. Вот что он писал в 1936 г. в статье «Анализ флоры Кавказа»: «Если бы не был геологически совершенно бесспорно доказан факт оледенений, то сопоставление акчагыльских и постгляциальных флор друг с другом не дало бы нам никаких указаний на существование между этими эпохами такого катастрофического для флоры и тяжелого по своим последствиям явления как ледниковое время. Палеоботанические материалы дают картину спокойного, постепенного развития флоры без всяких потрясений и принципиальных изменений в ее составе». Поддерживает А.А. Гроссгейма и палеоботаник П.И. Дорофеев (1958), который пришел к следующим важным заключениям: «Что касается изменений с составе флоры…, произошедших в результате плейстоценового оледенения…, то необходимо заметить, что это суждение очень преувеличено, так как к самому началу плейстоцена наша флора была почти современной, и следовательно, основная ее перестройка произошла в неогене». Полученные ботаниками и палеоботаниками данные и их выводы о почти полном сходстве доледниковой и послеледниковой растительности и о том, что основные изменения во флоре произошли еще в неогене, могли бы подорвать ледниковые схемы. Но главные научные школы почти не обращали внимания на заключения одиночек-исследователей. Коллективы решают все! Свою роль сыграли и ледниково-геологические факты, якобы «бесспорно» доказывающие ледниковые периоды. Но их - этих «бесспорных фактов» просто нет - они имеют совершенно другое, неледниковое происхождение - в основном, разломно-тектоническое. А геоботанические материалы остаются ценнейшими фактическими данными, надо только освободиться от сладких пут ледниковизма. Ботаник М.В. Клоков вывел горькую формулу: «В угоду гляциалистичекой концепции приходится самым жестоким образом калечить флористические факты». Долго ли еще будет продолжаться «калечение» фактов - и ботанических, и геологических, в угоду мощнейшей, номеклатурнейшей ледниковой системе, неизвестно.
4.7. Среднерусская возвышенность и оледенение По ледниковой теории в среднечетвертичное время в Фенноскандии возник огромный ледниковый щит толщиной 4 км - началось максимальное оледенение и ледниковые покровы перекрыли северные и центральные части Европы (рис. 10). При этом, на Русской равнине сформировались две лопасти льда - Донской и Днепровский ледниковые языки, которые неудержимо двинулись на юг, достигли низовьев Дона и Днепра и по пути с трех сторон окружили стеной льда Среднерусскую возвышенность (рис. 11). Размеры этих ледников известны, в их реальном существовании никто из ученых не сомневается. Длина Донского языка составляет более 600 км, ширина (на широте г. Воронежа) - 500 км; длина Днепровского языка более 500 км, при ширине (на широте Киева) - 350 км. При столь прочных знаниях площади оледенения, ученые совсем слабо проработали вопрос о мощности (толщине) ледниковых языков. А ведь это один из главных ледниковых показателей - от мощности ледника зависит его динамика, способность к движению, не говоря уж о канонизированных представлениях об огромном выпахивании и даже срезании толщи кристаллических пород и о полной беззащитности отложений осадочного чехла платформы от бульдозерного эффекта покровных льдов. Ученые уверенно называют мощности льда в ледниковых щитах, в многочисленных центрах оледенений и даже соревнуются в увеличении и без того многокилометровых мощностей льда на суше и на шельфах арктических морей. В то же время в публикациях тех или других авторов, чьи труды посвящены Донскому языку, толщины льда вообще не обозначаются. Игнорируется такой важнейший показатель, как толщина льда и в новейших публикациях на эту тему: в 2013 г. опубликовано 5 коллективных статей по Донскому языку и «донскому оледенению», но о мощности их льдов - ни слова. Но зато появилось «донское оледенение» взамен прежнего «днепровского оледенения». Вот оно, свободное от плагиата, фундаментальное слово в науке - новое покровное оледенение, рапортуют ученые. И эта научная фундаментальность, списанная под копирку, поддерживается грантами РФФИ - не зря в этой аббревиатуре зашифрованы волшебные слова - «фундаментальные исследования»! Выше приводились ориентировочные расчеты толщины Донского языка (с учетом данных по нунатакам). Она, эта толщина оказалась жалкой - до 80 м. Посмотрим, поможет ли в этом вопросе модель П.С. Воронова.
4.7.1. Реконструкция фигуры и толщины ледниковых покровов. Модель Воронова В помощь геологам-четвертичникам могут и должны прийти основательные работы известного исследователя Арктики и Антарктики П.С. Воронова, разработавшего методику определения ледниковых фигур и толщины льдов покровных ледников четвертичного времени. В основе модели Воронова лежит метод актуализма - универсальный метод в деле гляциологического моделирования. В монографии «Очерки о закономерностях морфометрии глобального рельефа Земли» (1968) П.С. Воронов использовал хорошо известные материалы по гипсометрии, подкрепленных данными по мощности льдов и гляциологическими профилями через ледниковые покровы Гренландии и Антарктиды. Реконструкцию фигуры максимального оледенения Европы П.С. Воронов проводил, базируясь на расчетно-графические материалы именно этих ледниковых покровов. На графике усредненных профилей ледниковых покровов, хорошо видно, что профиля Антарктического и Гренландского ледников по математическим и графическим параметрам близки между собой (рис. 12). И это несмотря на то, что площади их оледенения существенно различны, но здесь действует общие для ледниковых щитов и покровов гляциологические закономерности, общие ледниковые процессы. Осредненный профиль реконструируемого максимального четвертичного оледенения в данной модели оказался средним между значениями и графиками профилей Гренландского и Антарктического ледниковых покровов, и он вполне репрезентативен для палеогеографических реконструкций. Но для подобных реконструкций можно использовать профиля и графики каждого ледникового покрова - Гренландского или Антарктического в отдельности, так как показатели и геометрические фигуры этих мощнейших ледников близки между собой и дополняют друг друга. Существенный интерес представляет также карта-схема днепровского оледенения, составленная П.С. Вороновым и тоже помещенная в его монографию. Особенно важна та часть схемы, где показаны Днепровский и Донской ледниковые языки с гляциоизогипсами - мощностями льда в разных их секторах. Так в северных секторах обоих ледниковых языков толщина льда составляет по 2000 м, в центральных - 1500 м, а в самой периферийной - 500 м. А теперь посмотрим какие мощности льда дают нам графики ледниковых профилей покровных льдов в разных их частях (см. рис. 12). На расстоянии 2000 км от края ледникового покрова - практически в центре оледенения на Балтийском щите, толщина льда составляет 4000 м, а на расстоянии 560 км от края (где уже оформились основания ледниковых языков), толщина льда составляет 3000 м. Приближение ледниковых лопастей (языков) к их периферии вызывает заметный наклон ледника и постепенное уменьшение его толщины. Так на расстоянии 180 км от края ледника, его толщина составляет 2000 км, а на расстоянии 100 км от ледникового края - 1000 м. Крутое падение поверхности ледника фиксируется в 40 км от его края, соответственно, до 500 м уменьшается и толщина льда. Примерно такое распределение мощности льдов должно фигурировать и в трудах сторонников великих ледниковых языков - Днепровского и Донского, а не какие-то сиротские 100-150 и 300 м. Правда, сам ученый несколько снизил (видимо, на всякий случай) мощности льда в Днепровском и Донском языках - 1500 м (вместо 2000) и 1000 м (вместо расчетных 1500). Но и этих мощностей льда достаточно, чтобы поставить вопрос; почему, имея такие мощности льда ледник не перекрыл Среднерусскую возвышенность, а только окружил ее? Может эта возвышенность на самом деле крупная орографическая преграда и чуть ли не сама, как Гималаи, способна продуцировать горно-долинные ледники? Читаем в «Краткой географической энциклопедии» (1964): «Среднерусская возвышенность. Находится в центре Русской равнины, вытянута с севера на юг на тысячу километров, при ширине 500 км, абсолютные отметки рельефа 230-250-270 м. Наибольшая высота 290 м» (по уточненным данным - 293 м). Заурядная для платформы возвышенность. На ее территории разместились четыре области - Тульская, Орловская, Курская, Белгородская. Возвышенность расположена в полосе развития широколиственных лесов (северо-западная часть), лесостепной и степной ландшафтных зон. Среднерусская возвышенность - мои родные места - я родился в Орловской области, да и фамилия моя местная, деревенская, произошла от села Чувардино. Орловская область обошлась без оледенения, а вот Бородинское поле и деревня Шевардино (ставка Наполеона) и Шевардинский редут, увы, расположены на «моренной» равнине. Чем поможет возвышенность в развитии ледниковой теории? Как видно из гипсометрических характеристик, она совсем не высока эта Среднерусская возвышенность и, судя по отметкам малых возвышений в смежной Окско-Донской равнине, не слишком отличается от нее. Вот высотные отметки в пределах «гляциальной» Окско-Донской равнины: 234, 238, 252, 260, 266, 289, 292 м над уровнем моря. Просто высоты на Среднерусской возвышенности расположены более компактно, а на этой соседней равнине они разобщены. Что касается Приднепровской возвышенности (в ее «ледниковой» части), то гипсометрически она мало отличается от Среднерусской возвышенности - преобладающие высотные отметки находятся в пределах 230-250 м, а отдельные высоты превышают 300 м над уровнем моря (Овручский кряж - 316 м над уровнем моря). А вот Левобережная Украина - это действительно довольно плоская равнина с отметками 170-190 м, с отдельными возвышениями высотой 221-225 м над уровнем моря. Подводя итог этому краткому обзору, можно подчеркнуть, что Среднерусская возвышенность в целом незначительно - на несколько десятков метров превышает соседние равнины, высоты которых нередко вполне сопоставимы с «экстрагляциальной» возвышенностью. Теперь, зная расчетную толщину льда в ледниковых языках - от 3000 м на самом севере с последующим уменьшением к югу до 2000-1500 м и 1000-500 м на крайнем окончании ледника, можно поставить вопрос: почему ледник не перекрыл Среднерусскую возвышенность, не выступил единым мощным фронтом и, глядишь, дошел бы до Черного моря, как многие десятилетия подряд утверждал академик В.Р.Вильямс и его научная школа. Но коль скоро ледник не двинулся единым фронтом, приходится принимать привычный вариант - окружение Среднерусской возвышенности стеной льда с трех сторон. Но какова теперь - при полученных расчетных данных о мощности льда, будет эта ледниковая стена? Много выше известного Ледяного барьера Росса! Здесь мы имеем 1500-2000 метровую толщину ледника и наша возвышенность попадает в жуткий ледниковый мешок! Невероятный ледниковый грабен, сродни грабену Ламберта (который, впрочем, заполнен льдом). Вот и наступило время торжествовать флористической школе Г.Э. Гроссета, который еще в 30-е годы выдвинул теорию полного уничтожения местной растительности на Среднерусской возвышенности и панического бегства ее жалких остатков сквозь еще не завязанную горловину ледникового мешка. Что скажут ботаники и географы? Чем закончатся схоластические диспуты их ледниковых научных школ? Школы разные, но ученые едины в одном: без ледниковых периодов никак нельзя! А вот - ботаники Г.К. Смык, Е.Н. Кондратюк, геолог В.М. Тимофеев, не оглядываясь на академию наук московского разлива, на основании биогеографических данных сняли-таки оледенение с Украинского щита! Может и нашим ученым, носящим пышнейшие звания, надо задуматься над этим вопросом?
|
|
Ссылка на публикацию: Чувардинский В.Г. Было ли материковое оледенение? Мифы и реальность. Lambert Academic Publishing. 2014. 284 с. |
![]()