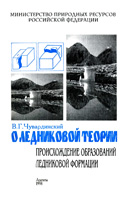| ||
|
| ||
|
“Четвертичный ледник стал у нас наиболее удобным фактором, привлекаемым для объяснения как крупных, так мелких форм рельефа, зачастую не имеющих никакого отношения к оледенению”. Проф. М.М.Ермолаев (1962)
Глава 3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕДНИКОВО-АККУМУЛЯТИВНЫХ И ГЛЯЦИОТЕКТОНИЧЕСКИХ ГРУПП РЕЛЬЕФА
В данном разделе рассматривается происхождение форм рельефа, которые принято относить к ледниково-аккумулятивному рельефу (озы, краевые морены, холмисто-моренный рельеф, камы) или связывать с ледниковым выпахиванием и аккумуляцией (друмлины, друмлиноиды, сельги), с экзарационно-напорной деятельностью ледника (долины ледникового выпахивания, гляциодислокации, отторженцы). Фактически, перечисленные формы рельефа, относятся к группе структурного рельефа, так как формирование их связано с тектоническими процессами - пликативными и дизъюнктивными. Ниже приводятся доказательства неледникового генезиса этих типов рельефа, при этом особое внимание уделено тем формам, которые являются опорными для ледниковой теории.
3.1. Озы (эскеры) По вопросу происхождения озов (эскеров) существует несколько гипотез, но все они так или иначе связывают происхождение этих форм рельефа с деятельностью ледника и его талых вод. Наиболее широко распространена гипотеза образования озов в ледниковых туннелях или ледниковых трубах - путем заполнения их песчано-гравийным материалом. Другая группа гипотез связывает происхождение озов с дельтово-ледниковой аккумуляцией в подледниковых каналах. Существуют также несколько гипотез надледного происхождения озов, в том числе накопления песчано-гравийно-галичниковых отложений в трещинах ледников и последующей проекции этих отложений на неровное ложе. В последнее время нередко пишут об озово-водноледниковых магистралях, в которых озы чередуются с камами. Механизм формирования таких магистралей не раскрывается, за исключением указания на их формирование во время таяния покровного ледника. Весьма важным открытием исследователей, изучавших озы Балтийского щита, было установление их сопряженности с неотектоническими разломами фундамента. По их данным озы и озово-водноледниковые магистрали прослеживаются вдоль разломов на десятки и даже первые сотни километров (Г.С.Бискэ и др., 1971; Г.С.Бискэ, В.А.Ильин, А.Д.Лукашов, 1976; В.А.Ильин, 1976; В.А.Ильин, Г.Ц.Лак, 1972; А.Д.Лукашов, В.А.Ильин, 1974, Herme, 1963; Pentillä, 1968) (рис.44). При этом часть разломов, к которым приурочены озы, активны и в настоящее время (Mörner at al., 1989), а некоторые крупные озы - например озы острова Мегостров (Карелия) испытывают новейший тектонический перекос (Г.С.Бискэ и др., 1971). По нашим исследованиям озы Кольского полуострова также приурочены к разломам фундамента и прослеживаются вдоль них на десятки километров (В.Г.Чувардинский, 1984, 1986) (рис.45). Сопряженность озов и сквозьчехольных разломов фундамента установлена и на Русской платформе (В.Н.Коженов, В.И.Шкуратов, 1981; В.Е.Останин, 1982; Э.А.Левков, 1980). Большой фактический материал о связи озовых гряд с неотектоническими разломами в северной части Украинского щита содержится в объемной публикации Ю.А.Кошика, В.М.Тимофеева и В.Н.Чмыхала (1976). Детальным геологическим картированием с применением бурения ими было установлено, что озовые гряды расположены над разломами и тянутся вдоль них на расстояние до нескольких десятков километров. Е.В.Рухина (1973), также отмечает совпадение ориентировки озов и разломов и указывает, что на Кольском п-ове “образование озов связано с молодыми тектоническими разломами и подвижками вдоль них” (стр.60). Однако ниже выясняется, что движения по разломам необходимы для образования трещин в леднике. И не более того. Можно констатировать, что установление сопряженности озовых гряд и неотектонических разломов не привели к пересмотру их генезиса и замечательная формулировка Е.В.Рухиной “образование озов связано с молодыми тектоническими разломами и подвижками вдоль них” осталась незамеченой. Была выдвинута очередная гипотеза их гляциального происхождения. Преамбулой новой гипотезы могут быть следующие сведения по озам Карелии: “Озовые гряды Заонежья и Повенецкого залива протягиваются параллельно основным разрывным нарушениям. Наблюдения над ними позволяют утверждать, что озы не только зависят от морфологии поверхности коренного ложа, но и генетически связаны с такими структурными элементами, как тектонические разломы. Подвижки, прошедшие по тектоническим разломам в ледниковое время, могли воздействовать на ледниковый покров, формируя в нем систему трещин, впоследствии фиксируемых озами”. (Г.С.Бискэ и др., 1971, стр.55). Итак, по Г.С.Бискэ с соавторами, озы генетически связаны с тектоническими разломами, но остаются ледниковыми по происхождению. Формулировка Е.В.Рухиной почти дословно повторяется. Остается, однако, необъяснимым источник поступления в, полученные таким сложным путем, ледниковые трещины песчано-галечного заполнителя. Если учесть, что речь идет о покровном леднике, этот вопрос остается без ответа, так поверхностные морены на покровных ледниках отсутствуют. Новая гипотеза сохранила и другие неувязки старых теорий формирования озов, добавив к ним дополнительные, из которых можно остановиться на проблемах трещинообразования в теле ледника под влиянием тектонических поднятий по разломам фундамента. Ледник - вязкопластичное тело и трещины (в основном поперечные) в нем возникают или на весьма крутых перепадах рельефа (зона ледопадов), или в концевых частях ледников, обрывающихся в море. Для возникновения продольных (для формирования радиальных озов) региональных трещин в материковом леднике необходимы весьма масштабные - в сотни метров вертикальные поднятия того или иного крыла регионального разлома. В действительности такого масштаба и такого типа движения по разломам Балтийского щита не зафиксированы. Изучение на Кольском п-ове разломов, к которым приурочены озы и озово-камовые магистрали показало, что каких-либо существенных вертикальных перемещений одного борта разлома относительно другого не имеется. Тип дислокаций по этим озовым разломам был совсем иным, чем это требуется для ледниковой теории - это были смещения, вызванные горизонтальным тектоническим сжатием - преимущественно взбросо-сдвиги и надвиги. Причем взбросовая составляющая реализовывалась в скучивании надразломных рыхлых отложений (о чем будет сказано ниже). Идеи о трещинообразовании в покровном леднике под влиянием тектонических движений по разломам фундамента были подвергнуты критикИ.П.Бакановой и Д.Б.Малаховким (1969) еще до становления новой теории формирова озов. Они совершенно справедливо указали на “несоизмеримость скоростей тектонических и гляциальных процессов в платформенных условиях” и отметили, что амплитуды вертикальных тектонических поднятий за столь кратковременный период как деградация ледника, могли составить лишь несколько метров, что опять-таки несоизмеримо с толщиной льда даже в краевой части ледника. “В связи с этим, - пишут авторы, - вряд ли целесообразно искать связь между образованием трещин в теле ледника, приведших к возникновению тех или иных ледниковых форм, с различными проявлениями тектоники” (Баканова, Малаховский, 1969, стр.74.). Исходя из гипотез формирования озов, весьма благоприятными условиями для их образования являются современные ледники, в первую очередь горно-долинные, находящиеся в стадии отступления. Здесь соблюдены все условия необходимые для формирования озов: наличие ледниковых туннелей - внутриледниковых и подледно-ледниковых, широкое развитие надледниковых и подледных потоков, вырывающихся из-под ледника (из ледниковых туннелей), а также - самое важное - наличие на поверхности ледников массы осыпного, склонового материала - от песка и щебня до глыб и валунов. На ледниках - в зоне ледопадов, в том числе в концевой части, имеется масса трещин (еще одно условие для формирования озов). Но, даже при соблюдении всех теоретических установок, озы не образуются ни в горно-долинных ледниках, ни, тем более, в покровных, лишенных поверхностного обломочного материала. По данным, приведенным в “Гляциологическом словаре” (1984), в СССР насчитывалось 28700 ледников различных типов (из них немало покровных), но до сих пор не выявлено ни одного оза, сформировавшегося в соответствии с гипотезами их образования. На Земле, видимо, может насчитываться порядка 100 тыс. ледников (точной статистики на этот счет найти не удалось). На всю эту массу ледников имеется лишь несколько указаний о наличии озов у края современных ледников. В книге Ю.А.Лаврушина. “Четвертичные отложения Шпицбергена” (1969) приводятся данные о наличии озовых гряд близ долинных ледников Рагнар и Свенбреен. Согласно Ю.А.Лаврушину близ ледника Рагнар имеется два оза высотой до 2 м и протяженностью 35-40 м. В поперечном профиле они трапециевидны, с поверхности сложены песчано-галечным материалом, в середине гряд имеется ледяное ядро. Оз в поле мертвого льда ледника Свенбреен представлен цепочкой конусообразных холмов высотой 5-8 м, протяженностью до 200 м, внутри озовых холмов также имеется ледяное ядро (стр.71). Естественно, что при вытаивании ледяного ядра от этих озов останутся лишь слабые всхолмления, да и те снивелируются солифлюкционными процессами. Близ ледников Исландии озы описаны В.Окко (V.Okko, 1955). Они имеют высоту от 5 до 10 м, длину 150 м, сложены песчано-галечными флювиогляциальными отложениями. По данным В.Окко эти озы сформировались путем эрозионного расчленения флювио-гляциальной террасы. Им отмечены также начальные стадии процесса эрозионного расчленения террасы и первичные формы эрозионных озов с реликтовой плоской вершиной. Конечно, это совсем “не те” озы, которые развиты в области “древнего материкового оледенения”. В противовес отсутствию озов у края современных ледников, на Балтийском щите они являются непременным элементом ландшафта и их можно встретить в любом целенаправленном геологическом маршруте. Широко развиты озы и на Канадском щите (Glacial map of Canada, 1968). Изучение морфологии озов показывает, что их размеры, хотя и варьируют от места к месту, но в пределах одной и той же озовой “магистрали” остаются в рамках определенной величины. Иначе говоря, среди озов “водно-ледниковой магистрали” мы найдем озы примерно одних и тех же размеров - по ширине и высоте, как в истоках, так и в устьях “магистралей”, несмотря на то, что длина “водно-ледниковых рек” составляет десятки, а иногда и сотни километров. Так, например, озы Кольского полуострова вдоль долин рек Лотты, Титовки, Западной Лицы, тектонических депрессий на междуречьях этих рек, на всем своем протяжении (от 60-80 и более 100 км) имеют практически одни и те же размеры, или, точнее, представляют одни и те же вариации своих морфологических характеристик (рис.45). Не менее показательны в этом отношении озы Карелии и Финляндии, которые образуют общие “водно-ледниковые магистрали” длиной 250 км, из них до 100-150 км в Карелии (Ильин, 1976; Рухина, 1973; Лукашов, Ильин, 1974; Pentilla, 1968). При этом размеры озов в пределах “магистралей” остаются примерно одинаковыми от Ботнического залива до внутренних частей Карелии, представляя довольно однообразное чередование озовых гряд, камовых полей и камовых плато (Ильин, 1976; Ильин, Лак, 1972; Лукашов, Ильин, 1974). При этом камовый рельеф приурочен к зонам пересечения разломов. Эти черты морфологии и строения “озовых магистралей” не объяснимы с позиций их водно-ледникового генезиса. В самом деле, если озы действительно формировались в теле тающего ледяного массива - в туннелях, ледяных трубах, в надледных и подледных долинах, то неизбежно должно иметь место расширение ледяных труб, туннелей и долин от центральных частей тающего ледникового щита к его периферии под действием водной эрозии, термоабразии и инсоляции. Соответственно в сотни раз должны увеличиваться водность ледниковых потоков, количество влекомых и отлагаемых наносов, должны в сотни раз возрастать размеры озов по высоте и особенно ширине. Однако, как было показано выше, ни размеры озов, ни мощность “водно-ледниковых” отложений не увеличиваются от верховьев предусматриваемых ледниковых рек к их устьевым частям, несмотря на то, что длина “озовых магистралей” составляет 150-200 км и более (в пределах Канадского кристаллического щита отдельные озы имеют длину более 200 км, а “озовые магистрали” - до 300 и более километров (Glacial map of Canada, 1968). Нет ответа также на вопрос, почему эти хрупкие, эфемерные песчано-гравийные гряды не были размыты и не превращены в аллювий на флювиогляциальной фазе их образования. Важный материал для познания механизма формирования озов дает изучение их внутреннего строения, особенностей напластования слоев. Во всех случаях, если озы сложены осадками разного литологического состава - чередующимися в разрезе пластами песков, галечников, супесей, суглинков и гравийных отложений, устанавливается облекающее, антиклинальное залегание этих пластов (рис.47,48,49,51). Озовым грядам присуще также чешуйчато-складчатое (в целом, моноклинальное) залегание слоев, иногда отложения озов имеют дипировую структуру (Маркотс, 1992). Такое строение озов исключает возможность их образования потоково-ледниковым путем. С другой стороны, антиклинальное или чешуйчато-складчатое залегание слоев, приуроченность озов к разломам, простирание их вдоль осевых линий разломов позволяет считать, что озы имеют тектоническое происхождение - их следует рассматривать как надразломные и приразломные складки продольного сжатия. Механизм формирования озов представляется следующим: при горизонатальных, тектонических сжатиях в зонах разломов происходит сближение и смыкание крыльев крутопадающих раздвигов, сбросо-сдвигов) и уплотнение зон трещиноватости кристаллических (или вообще горных) пород. При этом происходит скучивание (сжатие) в антиклинальные складки - пологие или более крутые - рыхлых отложений, перекрывающих зону разлома, а также имеет место выдавливание материала из разломных трещин, возможно, по типу диапира (рис.50). Подобный механизм образования озов подтверждается следующими данными. На Канадском щите (Лабрадор-Унгава) анализ слоистости озовых отложений привел Т.Филдинга (Fielding T., 1964) о первоначально горизонтальном залегании слоев и о вторичном образовании озов, как грядовых форм рельефа (автор при этом и не отступает от флювиогляциального происхождения озов). Озы с выдавленным ядром известны в Беларусии (В.И.Гридин, Н.В.Кобец, 1965). В Польше близ Старгарда по данным А.Кункель (Kunkel A., 1966) в строении озов участвует два литологических комплекса пород: спресованная мергелистая глина, залегающая в ядре озов и рыхлые осадки, окружающие ядро. Вблизи оси озов слои залегают вертикально, а на крыльях угол их падения уменьшается до 45о. В восточной части Германии (район Пригнитца) ядро озов сложено выдавленными спресованными гольштейнскими глинами (Schulz W., 1967). Эти данные указывают на процессы латерального давления, оказываемые на ранее спокойно лежащие отложения, на собирание этих отложений в складки и выдавливание пластичных отложений в ядро озов. В пользу рассмотрения озов как надразломных складок продольного сжатия свидетельствует и наличие на плоскостях раздела пластов зон притирания (зеркал скольжения), образующихся при изгибе четвертичной толщи, а также многочисленных микросбросов, гофрированность глинистых прослоев. Последнюю можно рассматривать как мелкую складчатость набегания, характерную для складок сжатия. Отмеченные следы тектонических деформаций наблюдались нами в разрезах озов северо-западной и южной частях Кольского полуострова, они были известны и ранее, но безосновательно считались результатом бокового давления ледника (Никонов, 1964). В зависимости от строения зоны разлома - его ширины, протяженности, степени тектонического сжатия и мощности перекрывающих рыхлых отложений - на разных участках его формировались озы различной ширины, высоты и длины. Среди озовых образований Кольского полуострова и Карелии наблюдаются сдвоенные и строенные озы (впервые подобные озы были установлены в Карелии Г.С.Бискэ (1959). Такие образования можно рассматривать как чередование открытых антиклинальных и синклинальных складок продольного сжатия. При продолжающемся сжатии гряды могут смыкаться и формировать крупные, сложно построенные озы. Предварительные расчеты показывают, что для образования оза высотой 10-15 м, при первоначальной мощности рыхлого чехла в зоне разлома 5-7 м, величина тектонического сжатия (сближения крыльев разлома, уплотнения зон трещиноватости) должна составлять 20-30 м. Рыхлые отложения в образовавшейся гряде сжатия принимают облекающее, антиклинальное залегание. Оно отчетливо видно в озах, сложенных слоистыми осадками или отложениями разного литологического состава (см. рис.47-51). При сильных тектонических сжатиях, вызывающих в коренных породах надвиговые и сдвиговые смещения, озовые гряды, первоначально относительно прямолинейные, могут деформироваться, изгибаться (согласно эффекту вдвигания (Лукьянов, 1965; Разломы..., 1963), а затем и растаскиваться, разрушаться с образованием холмистого камового рельефа и отдельных гряд. На форму озов в плане, видимо, влияют и поперечные разломы, не случайно на месте пересечения систем разломов образуются озовые узлы и камовые поля - здесь формируются наиболее крупные запасы песчано-гравийных стройматериалов. При отсутствии в зоне разлома рыхлых отложений озы не образуются. На таких участках наблюдаются раздробленные коренные породы, тектонические ущелья или дислокации сколового типа. С чередованием участков сжатия и растяжения, характерных для разломов сдвигового типа вероятно связана прерывистость озов в “водно-ледниковых магистралях”.Поскольку в пределах протяженных зон разломов развиты разнообразные по генезису осадки от речных и озерных до морских, то озы на разных своих отрезках могут быть сложены различными по литологии, генезису и возрасту отложениями. Это и наблюдается в действительности. Озы чаще всего сложены песчано-галечными отложениями (с прослоями супесей и глин) озерно-аллювиального и морского генезиса. Нередко озы или их отдельные отрезки нацело сложены “мореной” (Никонов, 1964) и даже элювиально-делювиальным глыбовым материалом. Эти же отложения слагают и приозовые (приразломные) зоны на данных отрезках озов. Существенный интерес для познания природы озов имеют находки в них морских слоев. Так, в озах Кольского полуострова обнаружены горизонты морских песков и супесей с морской диатомовой флорой - слои трансгрессий портландия и фолас (Никонов, 1964), в озах Карелии - скопления морских раковин (Горецкий, 1949), в озах Финляндии - морских отложений с морской диатомовой флорой. Нами в песках, слагающих внутренние части озов на западе Кольского полуострова (район оз.Гирвас), выявлен комплекс морских, солоноводных и солоноватоводных видов диатомей, а в озе близ руч.Коньковский (крайний восток Кольского полуострова) обнаружены раковины морских моллюсков и фауна фораминифер. В Белоруссии, в разрезе оза Рубежница установлены растительные остатки, а также ископаемая фауна жуков (Санько, 1985) (рис.51). Что касается так называемых флювиогляциальных дельт, то, как указывалось, в их строении, наряду с немыми галечниками и гравийниками, участвуют отложения, содержащие комплекс морских раковин. Так, например, в разрезах эталонных (по А.А.Никонову (1964) и М.А.Лавровой (1960) “флювиогляциальных дельт” долины р.Туломы и Кольского фиорда - Пальники, Мурмашинская, Лукина гора, Восмус - выявлена фауна морских моллюсков арктобореальных и арктических видов (Егоров, 1936; Никонов, 1964; Апухтин, 1962). Некоторые исследователи на этом основании справедливо рассматривают эти “озовые дельты”, а также дельту Соловарака в качестве морских террас (Егоров, 1936; Апухтин, 1962). Морское происхождение - террасы трансгрессий портландия и фолас - имеют и “озовые дельты” низовьев рек Печенги, Титовки, Западной Лицы, Уры. В разрезе наиболее типичной (по А.А.Никонову) “озовой дельты” Печенги выявлен богатый комплекс фауны морских моллюсков (Апухтин, 1962) (ранее эта “озовая дельта” даже принималась за конечную морену (Бискэ, 1945). На крайнем северо-западе Кольского полуострова в террасовых песчано-галечных отложениях низовьев р.Шуонийоки (эти образования А.А.Никонов (1964) считает типичной “озовой дельтой”) нами обнаружены раковины балянусов, прикрепленные к неокатанным обломкам гнейсов, а в песках - полуразложившиеся остатки двустворчатых моллюсков (Astarte sp.). Многочисленны находки морских раковин в озах (эскерах) Северной Америки (Jves at al., 1964). Следует отметить, что надразломные песчаные гряды, известные как структуры сжатия, наблюдаются и во внеледниковых районах. Типичные по морфологии озы, например, недавно образовались вдоль оперяющего разлома сдвига Сан-Андреас (Лукьянов, 1965, фото 53). Надразломные гряды (“хребтики”), сложенные аллювием, в зоне разломов Южной Калифорнии достигают иногда 60-метровой высоты (Разломы..., 1963). Складки продольного сжатия, напоминающие по форме озы, легко моделируются в лабораторных условиях (Гзовский, 1972) (рис.52). Важный материал для определения возраста (и косвенно генезиса) озов даст анализ их распространения на площадях, бывших под водами морских поздне-послеледниковых трансгрессий. На Кольском п-ове и в Карелии озы широко развиты на площадях, покрывавшихся водами этих морей. Их верхние уровни достигали отметок 140 м, а на участках блоковых поднятий до 200-235 м (Бискэ, 1959; Лаврова, 1960; Апухтин, 1962). На “Карте четвертичных отложений СССР” м-ба 1:5000000 (гл. редактор Г.С.Ганешин, 1966) и “Карте четвертичных отложений СССР” м-ба 1:2500000 (гл. редактор Г.С.Ганешин, 1973) многочисленные озы изображены на низменных территориях Кольского п-ова, Карелии, Карельского перешейка, покрывавшихся, как следует из этих карт, водами морской поздне-послеледниковой тансгрессии (рис.53). В Финляндии и Швеции озы также широко развиты на площадях, бывших под уровнем морских трансгрессий, которые по данным ряда исследователей, достигали отметок от 100 до 160 м, а по некоторым данным до 170 и даже 200 м (Pentillä, 1968; Atlas of Finland, 1960; Seppala, 1974; Ericsson, 1983). Большие площади с широким развитием озов (эскеров) покрывались поздне-послеледниковыми морями в Канаде (рис.54). Если озы имеют ледниковый генезис, то эти моря трансгрессировали на уже сформировавшиеся озовые комплексы. Каким же образом озы сохранились от размыва, причем от двукратного цикла размыва - наступавшего и отступавшего моря? Видимо, не имеет смысла приводить общеизвестные сведения о геологической работе моря. Можно заметить, что при наступании моря происходит интенсивный размыв всех аккулятивных форм, выступающих в рельефе, в первую очередь песчано-галечниковых. При отступании моря также производится размыв ряда морских аккумулятивных форм и образование баров, кос, береговых валов, террас. Можно еще раз подчеркнуть, что озы - эти узкие песчано-гравийные гряды, крайне неустойчивы к процессам волновой абразии. Их размыв происходит в водохранилищах и даже в относительно небольших подпруженных озерах, частично затопивших озовые гряды. По нашим наблюдениям в Ковдозерском и Верхнетуломском водохранилищах и на озере Вялозеро скорость размыва озов составляет 0.1-2 м в год. На озере Вялозеро (в его северо-западной губе - Амозере) за 20-летний отрезок времени озовая гряда была размыта почти наполовину. На побережьях Баренцева и Белого морей озов не выявлено. Они развиты лишь на поднятых участках берега - на голоценовых террасовых уровнях. Наблюдения в полосе современного воздействия волновой абразии - в приливно-отливной и самой прибрежной (штормовой) зонах этих морей показывают, что галечниковые и песчано-гравийные береговые валы, косы, пересыпи, прибрежные бары размываются во время шторма в течение нескольких дней. Вместо них формируются новые подобные образования (нередко на другом месте). Поэтому со всей определенностью можно утверждать, что озы будут неизбежно размыты при морской трансгрессии. Важно отметить, что ниже и выше уровней морской границы в морфологии озов нет существенных различий. Высота гряд, крутизна их склонов остаются тождественными. Вряд ли это свидетельствует в пользу столь распространенной точки зрения о ледниковом генезисе озов, в обоснование правильности которой имеется 12 гипотез. Отменить “мешающую” этим гипотезам поздне-послеледниковую морскую трансгрессию, резко уменьшать ее границы или перенести в “межледниковье” не имеет особого смысла, так как озы нередко сложены осадками времени этих трансгрессий, в том числе морскими. Учитывая, что озы как формы рельефа не могли сохраниться от размыва при морских трансгрессиях-, можно полагать, что они сформировались (как надразломные складки) уже после регрессий морских бассейнов - в голоцене. Представляется также вероятным, что за четвертичное время озы в зонах разломов возникали и разрушались неоднократно. Имеется еще один важный аспект в проблеме генезиса озов - их абсолютный возраст. Методом радиоактивного углерода были получены абсолютные датировки органического материала из разрезов озов (эскеров) США и Канады. Все датировки оказались голоценовыми и находились в пределах 9500-12800 лет тому назад (P.Ives at al., 1964). Это является дополнительным указанием, что озы не имеют отношения к гипотетическим ледникам, и что тектоническая активизация платформ, приведшая к формированию надразломных складчатых структур-озов, продолжалась и в голоцене.
3.2. Друмлины Грядовые комплексы рельефа, относимые к друмлинам, широко развиты на Балтийском щите. Они нередко образуют целые поля, в которые гряды ориентированы в определенном направлении, будучи параллельны (или субпараллельны) друг другу. Размеры таких друмлиновых полей составляют в ширину до первых десятков километров и в длину до нескольких десятков и иногда сотен километров. По существу такие грядовые комплексы нередко определяют ландшафт страны, составляя характерную особенность ее рельефа. Примером является Карелия. В ее северной части поля друмлинового рельефа имеют широтное и субширотное простирание - восточное и северо-восточное. Для центральной части Карелии ориентировка друмлиновых полей субмеридиональная - с северо-запада на юго-восток. Гряды в комплексе такого рельефа имеют длину от сотен метров до 2-3 км, высоту от нескольких метров до 50-70 (иногда 100) метров, ширину - 200-500 м. Крутизна склонов гряд от 20 до 40-50о (имеются гряды с отвесными склонами). Межгрядовые понижения имеют ширину от 100-200 м до 500-800 м и большей частью заболочены, к ним приурочены многочисленные озера. Если гряды в полосе развития друмлинового рельефа сменяют друг друга по простиранию, то межгрядовые понижения прослеживаются почти беспрерывно. Строение (сложение) друмлинов на Кольском п-ове и в Северной Карелии различно. Одни друмлины сложены коренными породами, другие имеют коренное ядро или нацело сложены четвертичными отложениями. Х.Куримо (Kurimo, 1978) на территории Финляндии выделяет следующие разновидности друмлинов: 1) скальные; 2) со скалистым ядром; 3) сложенные мореной. Эстонские геологи (К.К.Орвику, К.П.Каяк, А.М.Рыук) также выделяют друмлины, сложенные коренными породами, имеющими скальное ядро и друмлины, сложенные мореной с прослоями песка. При этом скальные друмлины в Северной Америке именуют друмлиноидами (Р.Флинт), а в Карелии - сельгами. Другие ученые (А.Д.Лукашов, С.И.Рукосуев) в качестве друмлинов рассматривают только гряды, сложенные “мореной” и “водно-ледниковыми отложениями”. Последняя точка зрения неправомерна, так как в одном и том же друмлиновом поле развиты друмлины всех типов - от полностью сложенных кристаллическими породами до песчаных друмлинов и промежуточных их разновидностей - полускальных, “моренных”. Другое дело, что в конкретном друмлиновом поле могут преобладать или скальные друмлины или “моренные”. Более того, многие исследователи объединяют в один генетический тип друмлины и сельговый рельеф. Например, на “Карте краевых образований Европейской части СССР” м-ба 1:2500000, 1965 г. (авторы Е.П.Заррина, Д.Д.Квасов, И.И.Краснов) друмлины и сельги отнесены к одному генетическому типу ледниково-экзарационного рельефа. Главнейшей чертой строения друмлинового рельефа является четкая зависимость простирания гряд (и ложбин) от разломно-тектонического строения фундамента и чехла. Прямая зависимость простирания грядовых комплексов друмлиновых полей от проявлений новейшей разрывной тектоники устанавливается как наземными исследованиями, так и дешифрированием аэро- и космоснимков. Исследования, проведенные автором на Кольском п-ове и в Северной Карелии, показывают, что в контуре полей развития друмлинового рельефа сеть разрывных нарушений не только соответствует простиранию гряд и ложбин, но и приобретает доминирующее направление (северо-запад Кольского п-ова, полоса озеро Имандра-Канозеро-Порья губа, озеро Кереть-губа Чупа и т.д.). Особенно четко эта зависимость проявлена в Карелии (Карельском мегаблоке), где по данным В.Е.Гендлера и др. (1980) простирание разрывной сети, соответствующее простиранию грядового друмлинового (сельгового) рельефа - СЗ 310-320о составляет около 85%. В Ладожском мегаблоке северо-западное простирание разломных линий, соответствующее простиранию сельгового рельефа, достигает более 90%. Совпадение простирания сельгово-друмлинового рельефа с простиранием неотектонических разрывных нарушений в Карелии настолько очевидно, что Г.С.Бискэ (1959) перевела этот тип рельефа в рязряд денудационно-тектонического. В качестве примера дизъюнктивно-тектонического происхождения сельгово-друмлинового рельефа Г.С.Бискэ приводит обширные поля друмлинов в Северной Карелии. В связи с выдвижением точки зрения о тектоническом генезисе сельгово-друмлинового рельефа, Г.С.Бискэ считает, что в Карелии друмлины развиты очень ограниченно. Каков же механизм образования друмлинового рельефа? На этот счет существует несколько гипотез, но все они так или иначе связывают его формирование с деятельностью материковых ледников. Одни авторы (Д.Д.Квасов, Е.П.Заррина и И.И.Краснов (1965) считают, что ледник выпахивал друмлины как в коренных породах, так и в рыхлых. Другие (А.Д.Лукашов, С.И.Рукосуев) считают, что друмлины формировались в процессе складчато-чешуйчатого преобразования морены движущимся ледником. Распространена также теория, согласно которой друмлины возникали в результате неравномерного ледникового выпахивания и переотложения выпаханного материала (Гляциологический словарь, 1984). Этим теориям присущи следующие недостатки: 1) не учитываются физико-механические свойства льда и реальные механизмы движения ледников, свидетельствующие, что ледники не в состоянии выпахивать ни коренные, ни валуносодержащие породы; 2) утверждая ледниковый генезис друмлинов, авторы таких теорий не рассматривают тектоническое строение фундамента, не анализируют явную связь систем разломов с простиранием друмлиновых полей. Исследования, проведенные нами на Кольском п-ове и в Карелии, показали, что грядовый (друмлиновый) рельеф и система сближенных линейно ориентированных разрывов составляют единую парагенетическую систему. При этом линейные, параллельные разрывы проходят по межгрядовым понижениям, а поперечные разрывы разбивают гряды на отдельные отрезки.
Системы линейных разрывов, формирующих гряды и ложбины, секут все
метаморфические и интрузивные образования архея и протерозоя. Они могут
совпадать с простиранием докембрийских складчатых структур на их
отдельных отрезках, идти поперек или под острым углом к ним. Линейно
ориентированные вдольгрядовые разрывы, как показали геологосъемочные
работы на Имандровском, Порьегубском и Чупинском друмлиновых полях,
относятся к системе малоамплитудных сдвигов. Сдвигами являются и системы
сближенных параллельных разломов, формирующих сельговый рельеф Северного
Приладожья. На хорошо обнаженных участках в бортах сдвигов фиксируются
зеркала скольжения со штриховской, ориентированной горизонтально - вдоль
линий тектонических смещений. При наличии маркирующих горизонтов
устанавливается и амплитуда сдвиговых смещений. В районе Порьей губы и
юго-востоке Кандалакшского грабена она составляет десятки метров, а на
северо-востоке Кольского п-ова смещения по сдвигам, формирующим
друмлиновый рельеф, достигают первых сотен метров. В полосе
классического (по Н.Н.Арманд) друмлинового рельефа, развитого в районе
Лявозеро-Контозеро (центральная часть северо-востока Кольского п-ова)
Л.М.Граве (1966) было установлено около Наши наблюдения на Кольском п-ове и в Карелии показывают, что системы параллельных линейно-ориентированных разломов, не только формируют межгрядовые ложбины, но и влияют на морфологию гряд (т.е. самих друмлинов). Сдвиговые смещения по разломам вызывают образование оперяющих взбросо-надвиговых разрывов. Взбросо-надвиговые пластины, тектонические зеркала скольжения, другие формы сжатия, дробления и смещения в метаморфических и интрузивных породах наблюдаются на хорошо обнаженных участках друмлинов. Обнаженные борта таких друмлинов представляют собой бараньи лбы. Сложная дислоцированность пород и внутреннаяя структура друмлиновых гряд обнажается на участках их поперечного среза сбросами поздней генерации (рис.55). Надвиги и взбросы, моделирующие поверхность друмлинов и усложняющие их внутреннее строение, наблюдаются и в друмлинах, сложенных рыхлыми отложениями. По данным С.И.Рукосуева (1982, 1986) в Карелии друмлинам, сложенным “мореной”, присуще чешуйчато-надвиговое и чешуйчато-складчатое строение (которое он объясняет малопонятным действием ледника). Это указывает на то, что друмлины, сложенные “мореной”, при своем формировании испытывали те же (или близкие) тектонические напряжения, что и составляющие с ними единые поля, скальные и полускальные друмлины. Нами также изучался друмлиновый рельеф полуострова Рыбачий. Друмлины хорошо выделяются на аэроснимках и по морфологии близки обширным друмлиновым полям в северной части Канадского щита (аэрофотоснимки этих полей приведены в книге “Ледниковое наследие Канады” (Prest, 1983). Рыбачинские друмлины сложены осадочными образованиями рифея - песчаниками и глинистыми сланцами. Поля друмлинов имеют следующие особенности. Выделяются две обширные друмлиновые полосы, имеющие различное простирание: полоса друмлинов в восточной части полуострова ориентирована на северо-восток, а простирание друмлинов в западной части полуострова - северо-западное. Если связывать генезис друмлинов с ледником, то надо предусматривать две эпохи различного движения ледника или же вводить дополнительно новоземельскую ледниковую лопасть, что ранее предусматривалось С.А.Яковлевым (1956). Однако и этих необычайно гипотетических допущений недостаточно, так как рыбачинские друмлины представляют собой серию параллельных гребневидных и валообразных открытых антиклинальных складок - симметричных, ассиметричных и моноклиналей. Складки сложены рифейскими песчаниками и глинистыми сланцами и имеют следующие размеры: высота от 2-4 м до 10-20 м, ширина от первых десятков метров до 100-300 м (иногда больше), протяженность системы складок (состоящих из гряд-складок, разбитых поперечными трещинами) составляет 20-40 км (рис.56). Падение крыльев складок меняется от пологого до крутого (вплоть до вертикального), своды складок часто разрушены. Возраст складкообразования недостаточно ясен, так как в нем участвуют лишь рифейские породы. Возможно, он связан с альпийским или новейшим циклом тектогенеза. Складки срезаются морскими голоценовыми абразионными уступами, их поверхность до высоты 60-80 м осложнена морскими береговыми валами того же времени. Таким образом имеются различные типы друмлинов, но всех их объединяет тектоническое происхождение - они возникли в результате горизонтального тектонического сжатия. На участках выхода кристаллического фундамента на поверхность формировались скальные друмлины, на участках, где фундамент перекрыт чехлом рыхлых отложений или метаморфизованными осадочными толщами, формировались друмлины складчато-чешуйчатого и складчатого типа.
3.3. Холмисто-моренный рельеф Холмисто-западинный и грядово-холмистый рельеф широко развит на Балтийском щите и на Русской равнине. Его принято относить к формам ледниковой аккумуляции, известным под термином “холмисто-моренный рельеф”. Поскольку аспекты формирования холмисто-моренного рельефа на Русской равнине рассматриваются в разделе о происхождении краевых ледниковых образований, составной частью которых он является, кратко остановимся на характеристике холмисто-моренного рельефа Карело-Кольского региона. Холмисто-моренный рельеф в этом регионе развит достаточно широко, хотя и не повсеместно. На Кольском п-ове большие поля этого рельефа закартированы в центральной и южной его частях (бассейн озер Мунозеро-Вялозеро-Хлебное), на западе (район озер Гирвас-Верхн. Чалмозеро), к северу от Хибинского и Ловозерского массивов, на междуречье рек Титовка и Западная Лица. Большие поля холмисто-моренного рельефа известны в Карелии (район озер Выгозеро, Водлозеро и др.). Валунные пески и супеси, слагающие данный рельеф, залегают непосредственно на кристаллических породах архея и протерозоя. По морфологии различается крупно-холмистый (высота холмов до 20-30 м) и мелко-холмистый (высота холмов 3-10 м) рельеф, а также разновидности этого рельефа - грядово-холмистый и грядово- кольцевой. Характерной чертой всех групп холмисто-западного рельефа является наличие замкнутых - западин, занятых многочисленными озерами. Исследования, проведенные нами на Кольском п-ове показывают, что холмы нередко имеют коренное ядро и лишь с поверхности перекрыты маломощным чехлом “морены”. Более того, изображаемые на картах четвертичных отложений и геоморфологических картах (например, в “Атласе Мурманской области” (1977), в публикациях ряда ученых (Н.Н.Арманд, А.Д.Арманд, М.К.Граве и др.) поля холмисто-моренного рельефа фактически оказались сложенными коренными породами и элювиально-делювиальным глыбовым материалом. Такие поля “коренного” холмисто-моренного рельефа закартированы нами при геологической съемке в широкой полосе озеро Гирвас - оз.Верхнее Чалмозеро, в южных и северных предгорьях Ловозерских тундр. Особенностью этого рельефа является то, что как и в холмисто-моренном рельефе, сложенном мореной, для него характерно обилие замкнутых котловин, занятых озерами или мелкими болотами. На аэроснимках этот рельеф выглядит типично “холмисто-моренным”. Происхождение данного холмисто-западинного рельефа - разломно-тектоническое. Он сформирован в результате тектонического дробления кристаллических пород системой пересекающихся разрывов. В узлах пересечения разрывов - на участках наибольшего дробления пород возникли западины (занятые затем озерами), а блоки, ограниченные системой разрывов, преобразовались в холмы. Высота последних от 3-4 м до 20-25 м. Разрывы, сформировавшие “холмисто-моренный” рельеф на одних участках его развития относятся к тектоническим трещинам разного ранга; смещения по ним или не имеют места, или незначительны. В других случаях наблюдаются вертикальные и горизонтальные смещения приповерхностных блоков с амплитудой до нескольких метров. Этот процесс сочетается с разрушением смещенных пластин на глыбово-валунный материал и скучивание его в гряды и холмы. Изучение строения холмисто-моренного рельефа в других районах Кольского п-ова показывает, что особенности его морфологии - независимо от того, сложен он коренными породами, “мореной” или безвалунными песками, предопределены разломной (трещинной) тектоникой. При этом шаг разрывов определяет размер холмов в поперечнике, а кинематический тип разрывов - особенности их морфологии и внутреннего строения. “Холмисто-моренный” рельеф в его элементарном виде формировался в процессе тектонического дробления кристаллических пород фундамента. На участках, где кристаллические породы были обнажены, формировался блочный холмисто-западный рельеф, сложенный коренными породами и продуктами распада смещенных блоков и пластин - валунно-глыбово-щебнистым материалом. На площадях, где коренные породы были перекрыты чехлом кор выветривания, этот же разломно-тектонический механизм приводил к образованию “холмисто-моренного” рельефа, в котором холмы и гряды слагались смесью песчано-глинистого материала кор выветривания и разрушенных на глыбы и валуны тектонических блоков и пластин. Близкие по морфологии холмы и гряды формировались и при перекрытии коренного ложа морскими, озерными, аллювиальными и другими типами отложений. Разломно-дислокационные процессы, смещения приповерхностных блоков и пластин вызывали пассивное перемешивание материала кор выветривания, других перекрывающих отложений приводили как к формированию “морены”, так и холмисто-западинного и грядово-холмистого рельефа. Реальность таких процессов подтверждается общей деформированностью отложений, слагающих гряды и холмы, их брекчированностью, чешуйчато-надвиговым строением. Наблюдаются и другие признаки тектонического скучивания и перемещения обломочных масс. Более подробно внутрипластовые деформации этого типа описаны В.А.Ильиным и И.М.Экманом (1982) в Карелии. При этом авторы указывают на возможность участия в формировании холмистого и грядово-кольцевого рельефа дилатационных процессов, с чем следует согласиться, особенно для условий подводного формирования данного типа рельефа. Поскольку в тектоническое скучивание вовлекались не только дочетвертичные рыхлые образования, но и морские отложения, то в разрезах гряд и холмов иногда отмечаются морские осадки - в виде линз, перемятых прослоев. Так морские отложения с диатомовой морской флорой выявлены нами в разрезах холмисто-грядового рельефа на берегах озера Вялозеро, а морские отложения с фауной фораминифер в разрезах “холмисто-моренного” рельефа в низовьях р.Поной (Чувардинский, 1973). “Холмисто-моренный” рельеф, сложенный морскими отложениями с обильной фауной морских моллюсков, известен на севере Русской платформы в районе Вашуткиных озер, в Большеземельной тундре, на п-ове Канин (работы М.С.Калецкой, Е.Ф.Станкевич, Л.А.Кузнецовой и К.В.Николаевой). Таким образом, можно констатировать, что формирование “холмисто-моренного” рельефа связано с активизацией разрывной сети, с тектоническими движениями в фундаменте - вертикальными и горизонтальными. Эти движения вызывали деформации в перекрывающем осадочном чехле и приводили к образованию холмисто-западинного рельефа. Морфология и строение рельефа зависели от мощности перекрывающих фундамент рыхлых отложений и интенсивности разломно-тектонических процессов.
3.4. Камы В разделе о происхождении озов, упоминалось, что камы нередко входят в состав озовых комплексов и поэтому имеются основания связывать их формирование с процессами скучивания песчано-гравийных толщ, перекрывающих зону активных разломов. Имеются и другие типы камов, которые развиты самостоятельно или входят в комплекс “холмисто-моренного” рельефа, отличаясь от него составом слагающих отложений (преимущественно пески и гравийники). В этом плане камы можно рассматривать как штамповые формы рельефа, сформировавшиеся в результате воздействия на песчано-гравийные толщи мелкоблоковых тектонических подвижек в подстилающем фундаменте. Влияние трещинной тектоники на формирование камовых полей отмечают и сторонники оледенений, но они не поступаются принципами и обосновывают механизм формирования камов следующим образом: ”Анализ тектонического плана территории... дает серьезное основание считать камовые плато гляциоизостатическими поднятиями, ограниченными зонами глубинных разломов древнего заложения. Над воздымающимся плато (вследствие утончения и таяния льда) возникли зоны интенсивной трещиноватости, располагающиеся вдоль разломных зон. Здесь и создавались условия энергичной циркуляции внутриледниковых вод - основного фактора камообразования”. (А.С.Лавров, 1978, с.61). Как тут не вспомнить классическое: “волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом”.
3.5.Новейшая тектоника Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платформ За последние 20 лет геолого-геоморфологическими, космогеологическими, геофизическими и буровыми работами было установлено, что фундамент указанных платформ, особенно северной их половины, имеет блоково-тектоническое строение - разбит системой близмеридиональных, субширотных и диагональных разломов, активных в новейший тектонический этап. Результаты многих исследований по этой тематике опубликованы, поэтому в данном разделе приводятся лишь основные выводы исследователей. Большую работу по неотектоническому районированию северной половины Русской платформы выполнили В.И.Бабак, В.И.Башилов и Н.И.Николаев (1982). Ими выделена густая сеть разломов фундамента, доказана их активизация в новейшее время и прямое влияние на разрывообразование в осадочном чехле. По данным А.И.Шляупы (1981, 1993) и М.Добкявичюса и др. (1993) в фундаменте и чехле территории Прибалтики широко развиты неотектонические разломы и установлены современные движения по ним. Разломно-блоковое строение фундамента и современные вертикальные смещения по ним установлены в Эстонии (Л.А.Валлнер и др., 1983). Ряд разломов, тяготеющих к Финскому заливу, сейсмоактивны (Осмусаарское землетрясение в Финском заливе в 1976 г. имело интенсивность 6-7 баллов). Данные по разломно-блоковому строению и неотектонической активизации разломов фундамента и чехла для территории Беларуси приводятся во многих работах. Наиболее содержательными из них являются публикации Р.Р.Павловца (1987), А.В.Матвеева, Л.Ф.Ажгиревич и др. (1987), Э.А.Левкова и А.К.Карабанова (1994). Р.Р.Павловцом установлено, что разломы и линеаменты в фундаменте и чехле тектонически активны и влияют на формирование современного рельефа. Значительный интерес представляет “Неотектоническая карта Беларуси” (Левков, Карабанов, 1994), на которой выделено три главных системы региональных разломов: северо-западного, северо-восточного и широтного простирания (рис.57). Установлено, что разломы являются сквозьчехольными и активными на неотектоническом этапе. Заслуживают внимания и следующие выводы Э.А.Левкова и А.К.Карабанова: “ныне активная разломная сеть преимущественно имеет диагональную и ортогональную ориентировку, причем у диагональных нарушений обнаруживаются признаки горизонтальных перемещений”. Рассматривая тектонику запада Восточно-Европейской платформы, эти авторы пишут: “Ход новейших движений определяло формирование в последние 0.4 млн.лет Балтийской системы грабенообразных понижений, между воздымающимся Украинско-Воронежским и Фенно-Скандинавским “сводами” (1994, стр.119). В выводах и в самой статье Э.А.Левкова и А.К.Карабанова уже не содержится традиционных постулатов о гляциоизостатических движениях и о ледниковом выпахивании дна Балтийского моря. В северной части Украинского щита исследования геологов и геоморфологов также установили широкое развитие неотектонических дислокаций фундамента и чехла. Формирование грядового рельефа, ранее относимого к конечным моренам и озам непосредственно обусловлено новейшими движениями по разломам (В.М.Тимофеев, Ю.А.Кошик, А.А.Комлев, 1982). На активность разломов фундамента в центральной части Русской платформы указывается в ряде публикаций (Д.А.Лилиенберг, 1987; М.П.Гласко (1987); М.П.Гласко и Е.Я.Ранцман (1992)). Материалы о связи разломов фундамента с новейшими разрывными структурами на северо-западе Русской равнины приводятся в работах С.С.Шульца, Б.Н.Можаева, К.М.Геренчука. Р.Н.Валеев, проанализировавший развитие авлакогенов Русской платформы пришел к следующим выводам: а) современные очертания Балтийского моря и его центральная впадина являются результатом современных тектонических движений; б) в альпийский и новейший тектонический этап авлакогены древнего заложения испытали напряжения поперечного сжатия; в) ряд древних авлакогенов (Кандалакшский, Балтийский, Ботническо-Ладожский) следует относить к группе современных,, возрожденных рифтов; г) необходимо пересмотреть представления о слабой тектонической активности древних платформ, и в первую очередь пересмотреть утверждения об отсутствии горизонтальной составляющей тектонических движений на платформах (Валеев, 1978). В результате исследований в Московской и сопредельных областях М.П.Гласко (1987) выявлена блоковая дифференциация тектонических движений в фундаменте и чехле этой территории. Активными на современном этапе являются линеаменты - ограничения блоковых структур. По ним происходят разнонаправленные вертикальные и горизонтальные тектонические смещения. Большой фактический материал по новейшей тектонике Западной Сибири сосредоточен во многих публикациях. Из них следует отметить серию работ П.П.Генералова (1984а,б, 1986, 1987), а также публикации А.Н.Ласточкина, И.Л.Кузина, Р.Б.Крапивнера, И.Л.Зайонца, Л.А.Миняйло. Согласно этим работам фундамент Западно-Сибирской плиты имеет разломно-блоковое строение. Подновление, активизация разломной сети в новейший тектонический этап вызвали многочисленные нарушения - разрывные и пликативные в осадочном чехле, привели к формированию структурных валов и гряд (ранее считавшихся ледниковыми). Современные исследования возвращают нас к идеям А.П.Карпинского и И.Седорхольма о весьма значительной тектонической активизации древних платформ в послетретичное время. Исследования показывают блоковое строение и существенную тектоническую раздробленность фундамента и чехла северной половины Восточно-Европейской платформы и Западной Сибири. Они свидетельствуют о широком развитии взбросовых и сдвиговых движений по омоложенным и вновь возникшим разломам. Тектоническая активизация Восточно-Европейской платформы продолжается и ныне, на что указывают землетрясения (слабой и средней интенсивности), приуроченные к разломам и узлам их сочленения.
3.6. Динамика шовных зон разломов и вдольразломное перемещение тектонических брекчий и пластин В структуре разломных зон многие последователи выделяют зоны динамического влияния разломов, под которыми понимается система оперяющих разрывов и приразломная дислоцированность. Для познания внутриразломных тектоно-динамических процессов важное значение имеет более узкая часть этой структурной зоны - а именно осевая или шовная зона разломов. Это ориентированная вдольразломная система сближенных трещиноватых блоков и тектонических линз в смеси с тектонической брекчией, ограниченная крыльями разлома. В надвигах и взбросах брекчированные породы образуются в подошве и (или) над подошвой двигавшейся пластины (крыла), в сдвигах (и в сбросах) брекчированная зона зажата между бортами сместителей. Ширина шовной зоны разломов зависит от ранга и кинематики разломов и измеряется на платформах от долей метров до сотен метров, а протяженность - от десятков метров до десятков и более километров. Строение осевых (шовных) зон разломов и характер их развития достаточно хорошо известны, они также описаны в учебниках по структурной геологии - лучше всего в “Структурной геологии” В.В.Белоусова (1-3 издание, 1961, 1971, 1985). По В.В.Белоусову развитие разломов и их шовной зоны могут происходить в течение нескольких этапов. На первом этапе образуется линейная зона сильной трещиноватости, трещины преимущественно ориентированы вдоль линии разлома, они выкалывают узкие длинные блоки, клинья и линзы, также разбитые поперечными трещинами и окаймленные полосами более интенсивного дробления. При смещении пород по сместителю, в том числе смещению внутришовных линз, клиньев и блоков, на крыльях разлома на крыльях и аллохтонных обложках образуются штрихи, борозды, шрамы. Кроме того, на поверхности смещений образуются зеркала скольжения - блестящие гладкие поверхности, обязанные своим происхождением полирующему действию скользящих друг по другу пород и глинке трения. Дальнейшим результатом раздробления и истирания пород в шовной зоне разлома является образование тектонической брекчии. Глыбы пород в процессе своего движения вдоль осевой линии разлома смещаются, переворачиваются, стачиваются и приобретают удлиненную, утюгообразную и уплощенную форму. Штрихи, борозды, шрамы на глыбах и валунах в брекчиях имеют различное направление (вследствие их вращения и смещения в шовной зоне разлома), штрихи и борозды на стенках разломов могут иметь выдержанное направление - их простирание показывает направление общего тектонического смещения (рис.58). Размеры глыб в брекчиях различны: до десятков метров в поперечнике, но чаще они составляют доли метров. Более мелкие глыбы представляют собой обточенные, уплощенные и исштрихованные валуны, гальки. Около половины объема тектонической брекчии составляет более мелкий материал - вплоть до глинки трения. В условиях продолжающегося тектонического сжатия и активизации разлома в отдельных его частях - обычно в глубоких горизонтах, образуются катаклазиты - тектонические образования, состоящие из мелкораздробленных зерен пород и еще более тонкоперетертые породы - милониты. Шовные зоны крупных сдвигов, надвигов, взбросов и покровов областей альпийской орогении выполнены мощными толщами брекчий (тектонический меланж). Мощность их достигает в крупных надвигах и покровах многих сотен метров, а протяженность десятки, иногда сотни километров (А.В.Лукьянов и др., 1975; А.А.Александров и др., 1980; И.И.Белостоцкий, 1977; В.С.Буртман, 1973; Е.В.Лошманов, 1991). Для решения проблемы перемещения валунно-глыбового материала на щитах и платформах, а также в орогенических областях большое значение имеет изучение процессов внутриразломного (шовного) перемещения брекчий, блоков-линз, и тектонических клиньев. Характеризуя тектонические брекчии взбросо-надвигов и сдвигов, исследователи подчеркивают тектоно-динамическую обработку материала брекчий: на глыбах наблюдаются зеркала скольжения с бороздами и штриховкой, многие глыбы стесаны, откатаны, превращены в уплощенные, утюгообразные или овально-удлиненные валуны (и гальки), покрытые шрамами и штрихами разных направлений. На плоскостях валунов нередки фрагменты зеркал скольжения и серповидные знаки. Отмечается перемешанность обломков разного петрографического состава и разного возраста, среди них нередки валуны и гальки неместного происхождения - так называемые экзотические обломки. Отмечаются зоны катаклаза и милонитизации, некоторые гальки и валуны раздавлены до лепешковидной формы. Эти данные указывают на сильное тектоническое давление, которое испытывает материал шовных зон, они же показывают, что движение по разлому не ограничивается смещением крыльев разлома, но и сопровождается пермещением внутриразломной тектонической брекчии, или как ее нередко называют - брекчии трения. Поскольку развитие разлома и его шовной зоны происходит в едином тектоно-динамическом поле, направление движения брекчированного материала в общем будет соответствовать вектору смещения сместителей или тектонической взбросо-надвиговой пластины. Явления перемещений брекчий по разломам известны давно, они отмечались М.М.Тетяевым, И.В.Мушкетовым и Д.И.Мушкетовым (1935), В.М.Крейтером (1940). Ранее, до внедрения буровых и геофизических методов разведки, факты перемещения по разломам брекчий, содержащих рудные обломки, широко использовались в горном деле. Одним из первых исследователей, кто указал на важное значение вдольразломного транспорта брекчий для познания неясных аспектов дислокационных процессов, был А.Е.Михайлов (1958, 1973). Описывая брекчии трения платформенных разломов, он отметил присутствие в них обломков пород, не обнажающихся на поверхности, а находящихся на значительной глубине и выведенных в составе брекчий на поверхность. Данные по вдольразломному перемещению брекчий или объемных тектонических блоков и пластин приводятся в работах В.В.Белоусова (1962, 1986), К.П.Плюснина (1971), В.И.Попкова (1991), В.А.Романова (1986), Е.Н.Паталахи (1981), Г.Д.Ажгирея (1966), который предлагает определять направление тектонических перемещений по составу каменного материала брекчий в полости сместителя, поскольку этот материал по составу отвечает нижележащим, боковым, или вышележащим породам. Грандиозные перемещения тектонических брекчий (меланжа, тектонического массива) и экзотических обломочных пород характерны для крупных сдвиговых, надвиговых и покровных структур в областях альпийского горообразования. В условиях активизированных платформ, эти процессы существенно скромнее, но тем не менее имеются данные, что в сдвигах линзовидные тектонические блоки пород, ограниченные двусторонним сопряжением сместителей иногда перемещаются вдоль сместителей на расстояние более 10-15 км (“Изучение тектонических структур”, 1984). Особенностью такого процесса является то, что перемещение оторванных блоков и тектонической брекчии может идти не только в горизонтальном направлении, но и субвертикальном - вплоть до выведении обломочных масс и блоков-глыб на дневную поверхность. Такие восходящие движения (или выдавливание) составная часть дислокационного процесса во взбросо-надвигах и в сдвигах со взбросовой составляющей (рис.59). Амплитуды вертикальных перемещений брекчий в условиях платформ могут быть весьма значительны. Так в Гдовской сдвиго-взбросовой структуре глыбы и блоки пород кристаллического фундамента в составе тектонической брекчии выведены на поверхность с глубины 600 м. На участке Воротиловского “горста” породы кристаллического фундамента (глыбы гнейсов,амфиболитов) и глубоко залегающего чехла были выведены по системе взбросов и взбросо-сдвигов к дневной поверхности с глубины 1500-1600 м (строение этих структур более подробно будет рассмотрено ниже). На Кольском полуострове в массиве Карикъявр рудные глыбы пироксенита были выведены на поверхность по взбросо-сдвигу из горизонта, лежащего на глубине 290 м (Чувардинский, 1992). Как уже отмечалось, особенностью строения платформенного чехла Русской плиты является присутствие в его разрезе различного рода дислокаций, чешуй-пластин, отторженцев, зон смятия, (в том числе диапирового типа). Эти внутричехольные нарушения отчетливо приурочены к зонам разрывных нарушений в фундаменте. Особенно многочисленны такие нарушения в северной половине Русской плиты, что послужило причиной считать их ледниковыми структурами. Однако немало подобных чешуйчато-надвиговых дислокаций и зон смятия зафиксировано и во внеледниковой зоне Русской равнины (Бронгулеев, 1961; Разломы и горизонтальные движения..., 1977). Во “внеледниковой зоне” находятся и известные карлинские дислокации кайнозойского возраста. В их разрезе бурением и по обнажениям установлено несколько аллохтонных надвиговых пластин: нижнекарбоновых пород, залегающих на образованиях среднего карбона, среднекарбоновых, лежащих на верхнепермских отложениях и чешуй пород казанского яруса, вклинившихся в отложения юры и верхней перми. (Разломы и горизонтальные движения..., 1977). Пластины и чешуи надвигового происхождения в подобных дислокациях обычно имеют пологое, субгоризонтальное залегание, вертикальная составляющая их перемещения измеряется несколькими десятками метров Но имеются примеры и более крутого воздымания внутричехольных блоков, когда амплитуда вертикального перемещения достигает сотен метров. Так, в Белоруссии (Припятский прогиб) крупные блоки пород чехла были выведены по разлому с глубины 200-400 м (Ерошина, 1981). В Каневских дислокациях четвертичного возраста амплитуды вертикального смещения взбросо-надвиговых пластин колеблются от 20 до 250 м (при амплитуде горизонтального смещения 400-450 м) (Крапивнер, Юдкевич, 1989). Как установлено В.А.Голубевым (1970) по каневским надвигами на поверхность были вынесены с глубины 100-150 м чешуи песчаников сеномана и юрских пород, давших валуны и глыбы глубинного происхождения. В известных Вышневолоцко-Новоторжских дислокациях гигантские отторженцы нижнекарбоновых, верхнедевонских и кембрийских отложений занимают близмеридиональную полосу длиной 120 км. По данным Р.Б.Крапивнера (1990) эти нарушения приурочены к активному на неотектоническом этапе поясу разломов взбросо-сдвигового типа. Имеются веские основания полагать, что движения по этим разломам привели к выведению на поверхность пород глубокого залегающего чехла. Амплитуда вертикальных перемещений аллохтонных блоков в этой структуре могут достигать порядка 1000 м (кровля кембрийских пород в нормальном залегании в районе к западу от дислокаций (Кувшиново) вскрыта скважиной на глубине 1093 м (Геология СССР, т.IV, 1971). В Западной Сибири в Юганской структуре (на р.Бол.Юган) пакеты юрских пород, слагающих разрез чехла на глубине 2.6-2.8 км выжаты с этой глубины на дневную поверхность (Н.И.Николаев, 1988). Уточняя механизм этого выдавливания Н.И.Николаев, указывает на сильное локальное тангенциальное сжатие в фундаменте и чехле, что активизировало процессы глиняного диапиризма, которые в итоге и привели к выведению юрских (и меловых) пород на поверхность. Ранее убедительные доказательства тектонической природы юганского отторженца приводил И.Л.Зайонц (1972). Близкий механизм выдавливания крупных отторженцев эоценовых пород с глубины 300-500 м описан Р.Б.Крапивнером (1986, 1997) для малососвинских и самаровской структур Западной Сибири. Выходы внутричехольных верхнемеловых пород, известных в районе Сибирских увалов, по результатам исследований И.Л.Кузина и С.В.Трофимова (1982) оказались аллохтоными блоками, выведенными на поверхность с глубины 900-1000 м, в процессе формирования крупной диапировой структуры. Также с процессами диапирообразования (под действием тектонического сжатия в фундаменте и чехле) связано происхождением аллохтонных пластин верхнего мела на р.Лямин. Они выведены на поверхность с глубины 800-850 м (Н.И.Смирнов, 1985, П.П.Генералов, 1987). Несколько меньшие амплитуды вертикального перемещения - порядка 300 м, установлены для блоков и пластин эоценовых опок в структурах сжатия на р. Мал.Сосьва (П.П.Генералов, 1987). В Енъяхинской и Аркатабьяхинской структурах на Тазовском полуострове амплитуда вертикальных перемещений чешуй эоценовых глин составляют 130-300 м (Л.А.Миняйло, 1987).
Выше упоминалось
о более грандиозных перемещениях приразломных брекчий (меланжа), а также
олистостромовых хаотических масс в районах альпийского орогенеза. Эти
перемещения достигают многих десятков и даже первых сотен километров по
горизонтали и сотен метров и первых километров по вертикали. По данным
А.В.Лукьянова, М.Г.Леонова и И.Г.Щербы (1975) в меланжах, подстилающих
крупные надвиги и покровы содержатся крупные глыбы, валуны и гальки
пород, известных в коренном залегании в районах удаленных на сотни
километров. В Гагамской зоне (Приохотье) тектонический меланж, в том
числе тектонические отторженцы фундамента, перемещены по разломам с
вертикальной амплитудой до 2- Масштабные перемещения тектонического меланжа, состоящего из смеси глыб, валунов, габброидов, ультраосновных пород, вулканитов, песчаников с перетертым песчано-глинистым материалом описаны А.А.Александровым с соавторами (1980) в Корякском хребте. Разнообразный петрографический состав каменного материала, его тектоно-динамическая обработка (на глыбах и валунах имеются борозды скольжения, пришлифовка и т.п.) указывают на значительные горизонтальные и вертикальные тектонические перемещения меланжа. Интересные сведения о процессах формирования терригенного меланжа в бассейне р.Чугам (Тянь-Шань) приводит Е.В.Лошманов (1991). По его данным перемещение меланжа происходило в подошвах крупных надвигов, устанавливаются значительные горизонтальные и вертикальные его перемещения (рис.60). Гигантские горизонтальные и вертикальные перемещения тектонического меланжа и хаотических обломочных олистостромовых масс, связанных с ультрагельветскими, гельветскими и пеннинскими шарьяжами в Альпах, известны давно и хорошо изучены (“Тектоника Альпийской области”, 1965; М.Г.Леонов, 1981). Здесь можно лишь подчеркнуть, что идеи горно-покровного оледенения Альп в четвертичном периоде исходят из находок исштрихованных эрратических валунов гранитов, гнейсов, порфиритов, наблюдаемых на горных склонах, перевалах и в долинах. Эти валуны являются составной частью меланжей и хаотических олистостромовых толщ или продуктами их перемещения. Другие “ледниковые” признаки - отполированные и изборожденные коренные породы своим происхождением обязаны дизъюнктивному перемещению крупных блоков пород, являются тектоническиими зеркалами скольжения надвигов и шарьяжей. Кратко остановимся на некоторых теоретических аспектах дислокационных процессов в шовных зонах платформенных разломов. Изучение разломов сдвигового типа и зон их динамического влияния рядом исследователей показало, что сдвиговые перемещения в фундаменте вызывают существенные вертикальные движения в фундаменте и чехле. По результатам исследований С.Стоянова (1977) и Ж.Гамона (Gamond, 1983) при смещениях по сдвигам имеет место не только латеральное перемещение приразломного материала, но и выдавливание его вверх. Взбросовый тип перемещения материала наиболее интенсивен, когда смещение по сдвигу осуществляется в обстановке дополнительного поперечного сжатия. На таких участках происходит выведение на дневную поверхность тектонизированных, аллохтонных образований. По Л.М.Расцветаеву (1987) обязательным элементом дизъюнктивной деформации является тектоническое перемещение обособленных частей пород (“кусков” или фрагментов пород) и перемещение сопряженных сместителей. В самой дизъюнктивной дислокации Л.М.Расцветаев различает два взаимосвязанных явления - разрывную деформацию, заключающуюся в относительном перемещении отдельных деформированных частей (глыб, “кусков”) по уже существующим разломам и образование новых разрывов. Эти стороны дислокационного процесса обычно составляют последовательные стадии общей деформации, преобладание первой или второй, позволяют различить дизъюнктивную деформацию тектонического перемещения обломочных масс (или кусковую деформацию) и дизъюнктивную деформацию тектонического разрушения (образование новых разрывов). Согласно исследованиям Е.Н.Паталахи (1972), разломы в земной коре, после их образования, играют роль приложения тектонических сил. При этом объемные напряжения (касательные и нормальные), благодаря наличию разломов превращаются в поверхностные силы, которые деформируют породы в узких приразломных зонах. Поэтому в верхних горизонтах земной коры господствует шовно-приразломная тектоника, идет процесс шовно-приразломного смещения раздробленных тектонических масс. Близкие положения обосновывают Ю.В.Кононов и М.М.Кононова, которые при изучении сдвиговых зон также пришли к выводам, что “реальными очагами напряженного состояния, где осуществляется силовое взаимодействие блоков, выступают площадки контакта между смещающимися бортами разломов. При этом различная интенсивность силового взаимодействия между блоками приводит к образованию зон слабого, среднего и сильного трения между ними, что приводит к формированию неоднородной структуры полей напряжений и деформаций. Поэтому при сдвиговых движениях начинают проявляться не только горизонтальные смещения блоков, но и вращательные движения, поворот блоков на некоторый угол”. При таком механизме происходит окатывание блоков, и глыб кристаллических пород, образование на их поверхности разно ориентированных штрихов и борозд. В.К.Кучаем (1983) установлено, что в разломах-сдвигах, наряду с процессом латерального перемещения блоков пород, широко развито их вертикальное (субвертикальное) выдавливание. В.К.Кучай один из первых пришел к выводу, что в разломах-сдвигах, выходящих на поверхность Земли, энергетически наиболее выгодно именно вертикальное выдавливание блоков и пластин к поверхности, нежели их латеральное перемещение и, что в разломных зонах реализуется тот тектонический механизм, при котором требуются минимальные энергозатраты. Поэтому при горизонтальных тектонических напряжениях в движение вовлекаются блоки-клинья, пластины, и брекчия шовных зон сдвигов и надвигов, а при увеличении напряжений может иметь место и одновременное перемещение крыльев разлома. В сдвигах со взбросовой составляющей этот процесс идет сложнее, так как здесь возникает комплекс мелких разрывных структур взбросо-надвигового и сдвигового типов. Поэтому в осевых частях сдвигов наряду с блоками и клиньями, перемещаемыми по латерали, имеются участки, где раздробленный материал дислоцируется субгоризонтально или субвертикально (в соответствии со взбросовой компонентной сдвига) - к земной поверхности. В разделе “Сдвиговая тектоника в зоне Кандалакшского грабена” указывалось, что выдавливание узких блоков-клиньев в шовных зонах сдвигов мелких порядков хорошо документируется непосредственно в полевых условиях. Выдавленные блоки-клинья оставляют в шовной зоне сдвигов ваннообразные углубления, стенки которых представляют зеркала скольжения со штрихами, ориентированными субгоризонтально - в соответствии с направлением выдавливания блоков-клиньев. Выдавливание таких клиньев в одних случаях сопровождается смещением крыльев сдвига, а в других - реализация горизонтальных напряжений ограничивается только приразломным выдавливанием клиньев. В условиях Балтийского щита имеются все три типа тектонического взаимодействия блоков, выделенных Ю.В.Кононовым и М.М.Кононовой (1987). Но, по-видимому, преобладает слабый и средний типы тектонического взаимодействия, при которых перемещение блоков-клиньев и тектонической брекчии происходит внутри шовных зон разломов. Вместе с тем выделяются глубинные разломы, активизированные на неотектоническом этапе, в которых дислокационные процессы не ограничиваются приразломно-шовной зоной, а образуют серию оперяющих разломов, вызывают смещение крыльев как главных, так и второстепенных разрывов. К таким разломам в первую очередь относятся сдвиги, формирующие “грабены” - Кандалакшский, Онежский, Ладожский, фиорды Западного Мурмана. Они представляют собой системы субпараллельных сдвигов разного порядка и оперяющих взбросо-надвигов и сбросов. В таких системах зоны динамического влияния разломов смыкаются и образуют общие дислокационные полосы шириной до нескольких десятков километров. Рассматриваемый механизм разрядки тектонических напряжений посредством приразломно-шовного дислокационного процесса позволяет ответить и на следующий важный вопрос. На геологических и тектонических картах Карело-Кольского региона нанесено огромное количество разломов, в том числе региональных. Но смещений их крыльев в большинстве случаев не фиксируется ни геологическими, ни другими методами. И это при том, что шовные зоны разломов хорошо выражены в рельефе и уверенно дешифрируются на аэро- и космоснимках. Причина в том, что разрывно-дислокационный процесс в таких разломах ограничен приразломно-шовной зоной. Этот процесс приводит к геоморфологическому оформлению шовной зоны разлома - в виде линейно-вытянутых депрессий, узких озерных котловин, к формированию зон скучивания валунно-глыбового материала, выведенного по разломам на поверхность, но далеко не всегда ведет к смещению крыльев разломов. Подытоживая данные по динамике приразломно-шовных зон, можно констатировать следующее. 1. В разрывных структурах сжатия и сдвига тектонические напряжения концентрируются в приразломно-шовных зонах, что приводит к образованию многочисленных мелких блоков, клиньев, тектонической брекчии (тектонического меланжа, тектонического месива). 2. Перемещение тектонизированного материала шовных зон разломов осуществляется в соответствии с особенностями динамо-кинематического развития того или иного разломов. В шовных зонах сдвигов, на отдельных их отрезках, смещение плоских блоков, клиньев и тектонической брекчии происходит горизонтально вдоль простирания разлома в направлении смещения (фактического или потенциального) крыла сдвига. На участках взбросовой составляющей указанный материал дислоцируется в субгоризонтальном и субвертикальном направлении в сторону свободной (дневной) поверхности. В шовно-приразломных зонах надвигов и взбросов тектонизированный материал смещается в соответствии с простиранием сместителя взбросо-надвига в направлении вектора смещения висячего крыла, в сторону дневной поверхности. 3. В зависимости от масштабности (ранга, глубинности) сдвигов и взбросо-надвигов величина вертикального перемещения материала приразломно-шовных зон измеряется от первых метров до сотен метров и нескольких километров, горизонтального (в сдвигах) - в несколько раз больше. 4. Дислокационный приразломно-шовный процесс может происходить одновременно с перемещением крыльев разлома, предшествовать ему или развиваться автономно. Необходимые для развития приразломно-шовного дислокационного процесса тектонические напряжения во много раз ниже, чем силы, требуемые для смещения мощных и протяженных крыльев разломов.
Рассмотренный дислокационный процесс соответствует
известным формулам механизмов тектоно-дислокационного процесса: а) в
первую очередь реализуется тот механизм, который требует минимальных
энергозатрат; 5. Выдавливание приразломных блоков и тектонической брекчии с глубины в десятки и сотни метров имеет большое значение для поисковой геологии, так как по разломам могут быть выведены на поверхность фрагменты (валуны, глыбы) рудоносных пород, имеющих слепое залегание. Это обстоятельство является важным для разработки методики валунных поисков рудных месторождений, в том числе поисков “слепых” рудоносных массивов. Многочисленные доказательства перемещения приразломных типов и брекчированных масс вдоль разломно-шовных зон - вплоть до их выведения на дневную поверхность были приведены для того, чтобы рассеять скептическое отношение ряда геологов и географов к существованию таких процессов. Этой опасливой настороженности могло и не быть, если бы мы, будучи студентами, внимательно изучили капитальный труд В.В.Белоусова (1962) “Основные вопросы геотектоники”, в частности прочли подраздел “Разрывы горизонтального сжатия”, в котором разъясняется, что при развитии разломов по типу надвигов происходит высвобождение материала вверх, а при развитии сдвигов материал высвобождается в сторону. “Вообще говоря, - пишет В.В.Белоусов, - высвобождение материала при горизонтальном сжатии происходит в любом направлении, перпендикулярно оси сжатия, т.е. оно не обязательно должно быть направлено вертикально или горизонтально, но может быть и наклонным... Естественно, что в природных условиях при горизонтальном сжатии высвобождение материала вертикально вверх должно происходить легче, чем высвобождение его в стороны, т.е. туда, где выжимаемый материал должен преодолеть сопротивление соседних участков горных пород” (стр.309). Ниже рассматривается строение двух крупных разломных структур Русской платформы - Гдовских и Воротиловско-Тонковских дислокаций, представляющих несомненный интерес для доказательства самого процесса выведения тектонических брекчий из пород фундамента (в смеси с обломочными массами чехла) на дневную поверхность.
3.7. Гдовские дислокации Гдовские (Мишиногорские) дислокации выявлены Б.П.Асаткиным. В 1933 г. под этим названием Б.П.Асаткин описал залегавшие на поверхности сильно дислоцированные блоки и развалы пород архея, кембрия и ордовика - районе, где было развито сплошное поле моноклинально залегающих девонских отложений. Дислокации расположены в 25 км к юго-востоку от г.Гдова в 15 км к востоку от Чудского озера. Оконтуренная площадь дислоцированных пород составляет около 4х2.5 км. На дневную поверхность глыбы, отторженцы пород архея и палеозоя выходят близ деревни Мишина гора (Малаховский, Буслович, 1966; Шмаенок, Малаховский, 1974). По данным геологов относительная высота этой моренной горы - 30 м. Б.П.Асаткин, а затем Э.Ю.Саммет и Р.М.Мянниль природу дислокаций связывали с тектоническими причинами. Однако возобладала теория ледникового генезиса дислокаций, которые рассматривались в качестве гигантских гляциоотторженцев (публикации С.М.Чихачева, Б.А.Некрасова, З.Г.Балашова, В.А.Селивановой, О.И.Элькин, В.А.Котлукова, Б.Б.Митгарц). В 1961-1970 гг. в районе Гдовских дислокаций проведен большой объем буровых и геофизических работ. В центральной части дислокации дополнительно к скважинам Б.П.Асаткина было пройдено несколько глубоких скважин, в том числе скважина № 3 глубиной 903 м. Полученные материалы были обобщены в весьма содержательных статьях Д.Б.Малаховского и А.Л.Бусловича (1966), А.И.Шмаенок и Д.Б.Малаховского (1974). Краткие сведения по скважине глубиной 903 м приводятся также в статье Е.И.Хавина и др. (1973). По данным этих авторов район дислокаций расположен в пределах южного склона Балтийского щита. Поверхность кристаллического фундамента расположена здесь на глубине 530-560 м и перекрыта толщей осадочных образований верхнего протерозоя, кембрия, ордовика и девона. Все слои осадочного чехла залегают моноклинально под углом 10-12о (с погружением на юго-восток). Под таким же углом наклонена к юго-востоку и поверхность кристаллического фундамента (рис.61). На участке дислокации кристаллические породы фундамента представлены интрузивными плагиомикроклиновыми гранитами (ранний-средний протерозой), внедрившимися в комплекс архей-нижнепротерозойских метаморфических пород: биотитово-амфиболовых, амфиболо-биотитовых гнейсов, кристаллических кварц-биотитовых и графитистых сланцев, гранито-гнейсов, мигматитов и гнейсо-диоритов (Шмаёнок и Малаховский, 1974). По этим же данным центральная часть Гдовских дислокаций сложена комплексом обломочных пород, состоящих из брекчий, агломерата и глыб (диаметром до 100 м и вероятно более) всех пород этого района, включая кристаллические породы фундамента. При этом обломки, входящие в состав этой перемятой брекчированной толщи почти полностью сохраняют литолого-петрографические особенности пород коренного залегания. Глыбы, валуны и более мелкие обломки кристаллических пород неравномерно встречаются по всему разрезу дислокации - от фундамента до поверхности, причем размеры отдельных глыб-отторженцев фундамента достигают 100 м в поперечнике. Глыбово-валунный материал этого комплекса представлен гнейсами, гранито-гнейсами, гранитами, пегматитами и катаклазитами. Гнейсы преимущественно относятся к биотитовым разновидностям. Среди брекчий по вещественному составу различаются 1) брекчии, состоящие из карбонатных пород в смеси с глинисто-карбонатным материалом; 2) глинистые брекчии; обычно представлены смесью котлинских и лонтоваских “синих” глин; 3) брекчии, представленные обломками песчаников одной или двух свит; 4) брекчии, состоящие из обломков пород кристаллического фундамента - гранито-гнейсов, биотитовых гнейсов, гранитов, пегматитов, залегающих в тонкоизмельченной неоднородной массе с примесью глинистого материала; 5) смешанные брекчии, в составе которых в разных соотношениях встречаются обломки карбонатных пород, глин, песчаников и кристаллических пород фундамента. Размер обломков в брекчии 0.1-10 см. Авторы, помимо брекчии, выделяют агломерат, представляющий собой крупнообломочный материал с размером обломков до 1 м. По вещественному составу он также как и брекчии состоит либо из одного типа пород, либо представляет механическую смесь нескольких типов пород, в том числе кристаллических. По данным Д.Б.Малаховского и А.Л.Бусловича (1966) для образований, слагающих дислокации, характерна не только брекчированность, но и многочисленные зеркала скольжения. При этом слои осадочного чехла залегают без всякой стратиграфичской закономерности под разными углами, иногда стоят на голове. Породы несут на себе следы интенсивного дислокационного давления и тектонических подвижек. Вместе с тем отмечается отсутствие следов оплавления минералов, установлена идентичность термограмм глин, входящих в состав агломерато-брекчиевой толщи и тех же глин в нормальном разрезе. Это указывает на отсутствие явлений термального метаморфизма. Важными представляются следующие наблюдения Д.Б.Малаховского и соавторов. В полосе 4-5 км от Гдовской дислокации вмещающие породы характеризуются значительной трещиноватостью и нарушенным залеганием, углы падения слоев здесь изменяются от 5 до 70-80о, отдельные блоки смещены по многочисленным разломам. В скважине 4 установлено выпадение котлинского и гдовского горизонта верхнего протерозоя и части ломоносовской свиты, общей мощностью 115 м. В скважине 6 отмечено перекрытие доломитов набальского горизонта верхнего ордовика отложениями нарвского горизонта. В разрезе скв.101 установлено троекратное повторение толщ белых кварцевых песков нижнего кембрия и известняков кундских и волховских слоев, падающих под углом 70-85о, то есть фиксируются как бы перетасование пачек пород - типа серии чешуйчатых надвигов. Вообще, как отмечает Д.Б.Малаховский с соавторами, глыбово-обломочный материал и пакеты отложений, вскрытые скважинами имеют значительные смещения относительно уровня залегания соответствующих горизонтов в нормальном разрезе. Так на поверхность - под маломощный чехол “морены” выходят глыбы гнейсового и гранито-гнейсового состава размером до 100 м в поперечнике. К поверхности вынесены крупные глыбы и пласты известняков ордовика, чешуи котлинских глин - то есть пород, которые залегают в нормальном разрезе на глубинах 320-530 м. Вместе с тем, не менее важно и то, что, например, в скв. № 3 (ее глубина 903 м) глыбы котлинских глин обнаружены на 150 м, а обломки тех же глин в брекчиях - на 300 м ниже уровня залегания котлинских глин в нормальном разрезе. На 140 м ниже их нормального залегания в скв. № 3 встречены обломки гдовских песчаников, тогда как в этой же скважине глыба пород кристаллического фундамента размером около 80 м в поперечнике залегает на 220 м выше поверхности фундамента (рис.62). Подытожить характеристику разреза дислокации можно следующими выводами Д.Б.Малаховского и А.Л.Бусловича (1966): 1. Гдовские дислокации не являются ледниковыми отторженцами и гляциодислокациями. Они имеют тектоно-вулканическую природу и возможно являются трубкой взрыва. 2. Интенсивность дислокационных процессов выразилась в вертикальном перемещении блоков пород с амплитудой до 600 м. Соглашаясь с выводами авторов о неледниковом генезисе дислокации и о выведении с глубины 560-600 м на поверхность сквозь мощный чехол обломочных пород фундамента (глыб, гранитов и гнейсов), тем не менее нельзя принять их точку зрения о диатремовой природе Гдовской структуры. Материалы бурения показывают, что пород, характерных для трубок взрыва (кимберлитовых и безкимберлитовых) - пикритовых порфиритов, щелочных лампрофиров, мелилититов, а тем более кимберлитов не выявлено. Не имеется никаких признаков взрывных, эруптивных явлений - отсутствует эруптивная брекчия (хотя бы в обломках), не обнаружено следов оплавления минералов, термического воздействия на глины. В окрестностях структуры не встречено обычно сопутствующих трубкам взрыва даек нефелинитов, фурчитов, мончикитов, базальтоидов и других характерных пород эксплозивного комплекса. Указания на возможное наличие в керне скважин микроскопических включений туфов и туффитов, как признаков эруптивной природы структуры, дополнительными исследованиями не подтвердились (Шмаенок и Малаховский, 1974). К тому же само по себе присутствие туфов и туффитов может являться лишь указанием на участие вулканогенно-осадочных пород в строении фундамента и выведении обломков этих пород (как и гнейсов) вверх по разрезу дислоцированной толщи. Особенности строения Гдовской структуры, характер дислоцированности пластов, наличие мощных брекчий (агломерато-брекчий) явно тектонического типа, многочисленных зеркал скольжения - все это указывает на разломно-тектоническую природу дислокации. На это же указывает и факт прослеживания здесь брекчированных, нарушенных пород на глубину более 900 м - из них 350 м в породах фундамента. Упоминавшееся троекратное повторение разреза, переслаивание пород чехла с блоками гнейсов, гранито-гнейсов и гранитов показывают чешуйчато-надвиговый, взбросовый харатер разреза Гдовской структуры. Указания, что пакеты осадочных пород, вскрытые скважинами должны залегать на 320-530 м глубже и сам факт выведения на дневную поверхность с глубины 560-600 м крупных глыб-отторженцев кристаллических пород свидетельствуют о процессах разломно-тектонического (взбросового) перемещения пород. Но такие взбросы следует рассматривать в качестве оперяющих структур, в качестве вертикальной составляющей регионального Гдовского сдвига, имеющего субмеридиональное простирание. Дислоцированные породы выполняют приразломно-шовную зону этого сдвига и перемещались в основном в латеральном направлении. Но на участках интенсивного горизонтального сжатия вдольразломное смещение сменилось субвертикальным. В итоге блоки, пластины и тектоническая брекчия пород фундамента и чехла были выведены по крутым взбросам вверх по разлому к дневной поверхности. Возникновению резкой взбросовой составляющей на данном отрезке сдвига видимо способствовало дополнительное тектоническое сжатие, вызванное поперечным разломом. Приуроченность Гдовских дислокаций к узлу пересения двух систем разломов подтверждается исследованиями А.М.Шмаенок и Д.Б.Малаховского (1974), которые на основании магнито- и гравиразведки и структурно-геоморфологических данных пришли к выводу о местоположении Гдовских дислокаций в зоне пересечения двух региональных систем разрывных нарушений - субмеридиональной и субширотной. Геодинамические работы, проведенные Д.И.Гарбаром (1990), подтвердили эти выводы: на “Геодинамической карте зоны сочленения Балтийского щита и Русской плиты” м-ба 1:500000 Гдовские дислокации лежат в узле пересечения двух систем разломов - субмеридионального и субширотного. Поэтому есть основания полагать, что дислокационные структуры, подобные Гдовским, могут быть развиты на участках пересечения региональных сдвигов поперечными разломами. Подобные структуры могут быть выявлены и на продолжении самого Гдовского сдвига. Можно также полагать, что на участках сдвигов, не подверженных дополнительному поперечному сжатию, вероятнее всего преобладают внутричехольные дислокации с выводом на поверхность тектонических брекчий и аллохтонных чешуй, состоящих из пород чехла. По-видимому, к таким нарушениям можно отнести многочисленные “гляциодислокации” и отторженцы на Русской плите, в том числе в северо-западной ее части. На особенности строения некоторых из них будет обращено внимание ниже. Как отмечалось Д.Б.Малаховским с соавторами, в отдельных частях разреза Гдовских дислокаций установлено, что пакеты пород, глыбы или мелкие обломки брекчий встречены гораздо ниже - на 150-300 м, чем эти породы залегают в нормальном стратиграфическом разрезе в данном районе. Это важное наблюдение, по нашему мнению, еще раз свидетельствует в пользу разломно-сдвиговой природы дислокации. Горизонтальное вдольразломное перемещение чешуй, пакетов пород с участков их более низкого залегания может привести к тому, что дислоцированный материал в разломных структурах оказывается лежащим гипсометрически ниже, чем такие же ненарушенные породы на данном участке. При этом вероятность более низкого гипсометрического положения тех или иных горизонтов осадочного чехла и пород фундамента определяется не только региональным падением пород (а оно может локально меняться с пологого на более крутое), но возможными блоковыми погружениями фундамента (и чехла), вероятным развитием тектонических впадин и т.п. Величина горизонтального вдольсдвигового смещения обломочного материала может достигать многих километров. В дислокационных структурах гдовского типа возможно и нисходящее перемещение тектонических чешуй по типу поддвигов, на что, в частности, указывает выпадение из разреза нескольких стратиграфических горизонтов в зоне тектонических нарушений, вскрытых скв. № 4. Эти и другие нарушения, отмеченные А.И.Шмаенок и Д.Б.Малаховским (1974), тяготеют к зоне динамического влияния двух поперечных систем разломов, образующих Гдовскую структуру и расположены в нескольких километрах от нее. Существование вдольсдвиговых горизонтальных смещений блоков и пластин пород фундамента, на наш взгляд, подтверждается и тем, что в строении агломерато-брекчиевого и глыбового комплекса Гдовской структуры участвуют не только вмещающие структуру интрузивные граниты, но и различные гнейсы, кристаллические сланцы, другие породы. Судя по геологическим профилям (рис.4 в работе А.И.Шмаенок и Д.Б.Малаховского), породы гнейсового комплекса развиты за пределами контура Гдовской структуры на расстоянии 3.5 км от нее по данным бурения и 0.6-3 км по геофизическим данным. Можно считать, что блоки гнейсов и других пород, лежащие на простирании сдвиговой зоны, были вынесены в центральную часть Гдовской структуры в результате горизонтальных вдольсдвиговых смещений. Амплитуда этих смещений составляет от нескольких сотен метров до нескольких километров. По-видимому с разломно-тектоническими процессами связано и образование ряда дислокаций в других районах северо-запада Русской плиты, в том числе тех, которые выделены Д.Б.Малаховским и А.В.Амантовым (1991) в группу геолого-геоморфологических аномалий неясного происхождения. Из них наибольший интерес представляют дислокации в районе Крестецкого авлакогена, в районе Бокситогорска, в Котловской структуре. В эти дислокациях установлено резкое (против нормального) опускание дислоцированных толщ осадочных пород. Так в 70 км к западу от г.Валдай в зоне Крестецкого авлакогена скважиной были обнаружены пакеты нижнекарбоновых пород мощностью около 40 м, залегающие на девонских породах и опущенные на 150 м ниже регионального уровня их залегания. В районе Бокситогорска на руч.Бобровец в зоне интенсивно дислоцированных пород осадочного чехла наблюдаются внутрипластовые включения среднекаменноугольных пород в нижнекаменноугольные. При этом подошва маркирующего верейского горизонта расположена на 70 м ниже регионального уровня падения. По этим же данным в районе Котловской структуры (район Финского глинта) среди сплошного поля пород среднего ордовика выявлен выход нижнего кембрия, формирующий структуру кольцевого типа. По периферии последней последовательно выходят все породы кембрия и ордовика, включая кукерский горизонт, подошва которого опущена на 50 м ниже уровня регионального падения. В перечисленных дислокационных структурах изменчивость разреза фрагментарно близка к таковым в Гдовской дислокации. Это относится к стратиграфической нарушенности разреза чехла, внутричехольного вклинивания аллохтонных пластин, опущенности пластов пород по сравнению с общим уровнем их залегания. Такие нарушения, также, видимо, связаны с горизонтальными движениями по разломам (сдвигам и взбросам). Смещениями по сдвигам, горизонтальным перемещением пластин пород с участков их низкого гипсометрического залегания объясняется и положение аллохтонных пластин ниже уровня залегания одновозрастных пород на участках отмеченных дислокаций. Возможно, что отдельные опущенные пласты пород являются чешуйчатыми поддвигами нисходящего типа или связаны со сбросовой составляющей сдвига. Поскольку в таких структурах, как Котловская, значительная часть разреза сложена глинами, нельзя исключать развития процессов глиняного диапиризма, активизация которых связана с горизонтальным тектоническим сжатием. Большая роль глиняного диапиризма в формировании таких дислокаций как Дудергофские и Кирхгофские (ранее рассматриваемые как гляциодислокации), показана А.В.Волиным (1974). Участие процессов разрывной тектоники (наряду с глиняным диапиризмом) в формировании дислокаций и отторженцев этих структур подтверждается и тем, что по данным Д.Б.Малаховского и Э.Ю.Саммета (1982) они расположены в узле пересечения тектонической зоны глинта с гатчинской зоной тектонических нарушений. Таким образом, можно констатировать, что в разломах сдвигового типа происходит выведение на поверхность пород чехла, а на участках интенсивного горизонтального сжатия выводятся на поверхность и породы кристаллического фундамента. Как показывает строение Гдовской дислокации, кристаллические породы - в виде крупных глыб и тектонической брекчии могут выводиться сквозь мощный осадочный чехол с глубины 500-600 м и на поверхности формировать “моренные” гряды высотой 30 м и более. Что касается возраста дислокаций - а в них вовлечены архейские, протерозойские, палеозойские и кайнозойские породы, то формирование этих структур следует относить к кайнозою. Более того, в этом отношении можно присоединиться к мнению сторонников ледникового генезиса этих дислокаций - о их четвертичном возрасте. Действительно, тектоническая брекчия и глыбовый материал кристаллических и осадочных пород, выведенные на поверхность по разломам, формируют “морену”, а дислоцированные породы чехла образуют современный рельеф, в том числе “краевые ледниковые образования”. В связи с этим можно подчеркнуть принципиальную правильность выводов Б.Н.Можаева (1973) о кайнозойском возрасте и тектоническом генезисе ряда подобных нарушений (а среди них известные “гляциодислокации” на р.Поповка и Бурегские нарушения в зоне Ильменского глинта). Такие дислокации на северо-западе Русской плиты Б.Н.Можаев рассматривает в качестве новейших структур третьего порядка.
3.8. Воротиловско-Тонковские дислокации Дислокации Пучежско-Балахнинского Поволжья расположены в центре Русской плиты, охватывая северо-запад Нижегородской и сопредельные части Ивановской области. Платформенный чехол в этом районе достигает мощности 1600-1700 м и представлен антропогеном, мелом, юрой, триасом, пермью, карбоном, девоном и кембрием. Кристаллический фундамент сложен комплексом гнейсов архея (Горецкий, 1962; Разломы и горизонтальные движения..., 1977). Дислоцированные породы, отторженцевые и брекчиевые их фации обнаружены во многих пунктах в обширном районе Поволжья между р.Унжа на севере и Окой на юге. Но наиболее интенсивно дислоцированные породы чехла и кристаллического фундамента закартированы на участке сел Ковернино-Тонково-Воротилово, где почти к дневной поверхности с глубины 1600 м выведены блоки-отторженцы гнейсов и тектоническая брекчия с обломочным материалом кристаллических пород. На этом участке дислоцированы практически все породы платформенного чехла. На природу рассматриваемых дислокаций имеется несколько точек зрения. Наиболее широкое развитие получила теория четвертичных гляциодислокаций и отторженцев (А.М.Васильницкий, Н.С.Рагозин, Е.А.Кудинова, А.И.Москвитин, А.В.Артемьев, В.В.Ассонов). Эти представления вошли в учебники геологии. В числе признаков ледникового генезиса указывалось на полное сходство глинистых брекчий с мореной, неотличимость их от валунных глин, указывалось на наличие громадных отторженцев, на гляциотектонические структуры, бескорневой характер дислокаций. Подмеченные характерные признаки дислокаций и отторженцевой толщи имеют место, но после проведения глубокого бурения и геофизических работ стала преобладающей другая точка зрения - о тектонической природе дислокаций. Было установлено, что дислоцированные толщи в ряде пунктов имеют поверхностное и бескорневое строение, а районе Тонково бурением прослеживаются на глубину более 1095 м и по данным геофизических работ не затухают в архейском фундаменте (Нечитайло и др., 1959; Горецкий, 1962). Кроме того, выяснилось, что дислоцированная толща не только выходит на поверхность, но и на ряде участков перекрыта ненарушенными с поверхности отложениями юры и мела, что тоже поставило под сомнение ледниковую гипотезу дислокаций (Фрухт, 1958; Наливкин, 1962). Имеются и другие гипотезы происхождения этих дислокаций - оползневая, древних фангломератов, метеоритная гипотеза и др. В районе Ковернино-Тонково-Воротилово дислоцированные и брекчированные породы вскрыты многими скважинами, частично брекчированная толща выходит на поверхность. В строении брекчированно-дислоцированной толщи принимают участие как породы чехла, так и гнейсы, амфиболиты, основные эффузивы кристаллического основания, лежащего здесь на глубине 1600-1700 м (рис.63). Брекчированно-дислоцированная толща с грубообломочным материалом пород фундамента, в том числе отторженцами гнейсов наиболее близко подходит к поверхности в 1.5 км северо-западнее с.Тонково- здесь она вскрыта скважиной, начиная с глубины 91.5 м от поверхности (или 69.5 м от подошвы четвертичных отложений). С.К.Нечитайло (1959) считает, что западнее этой скважины гнейсовая брекчия подходит к поверхности еще ближе. В скважине № 1 (с.Тонково) гнейсовая брекчия и отторженцевые ее фации вскрыты на глубине 238 м под толщей юрских глин и прослежены до глубины 787 м, после чего сменились брекчированными амфиболитами, слагающими разрез до забоя скважины (глубина 792.3 м) (Нечитайло и др., 1959). По тем же данным гнейсовая брекчия вскрыта скважиной в с.Новопокровское на глубине 214 м. Что касается брекчий осадочных пород платформенного чехла, то они, будучи сопряженными с брекчиями кристаллических пород, выходят на поверхность в ряде пунктов - в том числе в долине р.Узола, д.Бледны, д.Курцево. В верхней и боковых частях гнейсовой брекчии крупно- и мелкообломочный материал пород чехла принимает заметное участие. Наиболее глубокая скважина в с.Роймино глубиной 1095 м не вышла из дислоцированных, брекчированных пород архейского комплекса (Нечитайло и до., 1959; Горецкий, 1962). Среди брекчий осадочных пород палеозоя и мезозоя выделяются “местные” брекчии, где глыбы и отторженцы представлены местными породами и “неместные” брекчии с глыбами и отторженцами, коренное залегание которых в данном разрезе или пункте не установлено. Вскрытые скважинами гнейсовые брекчии в верхней части своего разреза представляют смесь разнообразного материала осадочных и кристаллических пород. Среди последних валуны, глыбы гнейсов, амфиболитов, основных эффузивов. Размер наиболее крупных глыб-отторженцев гнейсов достигает 20-25 м в поперечнике. Более глубокие горизонты гнейсовой брекчии становятся сравнительно однородными по составу и почти нацело представлены породами гнейсового комплекса (с некоторой примесью материала осадочных пород чехла) (Нечитайло и др., 1959). По описанию керна скважин и колонкам, построенным С.К.Нечитайло и др (1959), устанавливается следующее. Для дислоцированно-брекчиевидной толщи характерны многочисленные зеркала скольжения, блоки и пласты залегают под углом 70-80о, часто стоят на “голове”. В разрезе этой толщи наблюдается переслаивание пластов и чешуй разновозрастных пород, брекчий разного типа и состава. Так, в скважине в с.Роймино (глубина скважины 1095 м) крупные блоки нарушенных девонских пород перемещены, перевернуты, надвинуты на пакеты нижнекарбоновых отложений, смяты и во многих местах превращены в типичную брекчию трения. В скважине в с.Новопокровское ниже брекчированной гнейсовой толщи залегают пластины серых и черных глин и алевролитов, одна из которых выклинивается в гнейсовую брекчию. Эти глины по облику близки как к юрским, так и меловым глинам (микрофаунистические и микрофлористические анализы керна глин не проводились). В скважинах с.Сельское и с.Беланицыно конгломерато-брекчия с валунами осадочных и кристаллических пород, перекрытая мощной толщей (до 400 м) юрских глин, подстилается глинами и мергелями предположительно карбонового и триасового возраста. В скважине № 1 (Тонково) в толще гнейсовой брекчии наблюдаются прослои (чешуи) аргиллитов и песчаников, а вблизи кровли этой брекчии в них вклинивается пласт юрских глин. Таким образом, в описываемой дислоцированной зоне, как и в разрезе гдовских дислокаций, наблюдается переслаивание пластин разновозрастных пород и разных по составу пластов брекчий. Чешуи и пласты пород надвинуты друг на друга, перевернуты, раздроблены, для дислоцированно-брекчиевидной толщи характерны многочисленные зеркала скольжения. Эти факты указывают на то, что и здесь развиты взбросо-надвиговые (поддвиговые) чешуйчатые структуры. Формирование и перемещение дислоцированно-брекчиевидной толщи происходило, главным образом, в приразломно-шовной зоне крупных сдвигов. Этот процесс можно представить как последовательное перемещение и “перетасовывание” чешуй, пластин и блоков чехла и фундамента в ходе их первоначального горизонтального и субгоризонтального вдольразломного скольжения и сменой этих движений на субвертикальные на участках интенсивного сжатия. Как следствие этого - резкое преобладание взбросовой составляющей сдвига и выведение пород фундамента и глубоко залегающего чехла к поверхности. В зонах динамического влияния сдвигов - вблизи дневной поверхности, широкое развитие получили оперяющие надвиги (поддвиги), по которым чешуи пород и брекчии выводились на поверхность. Точка зрения о тектоническом генезисе рассматриваемых дислокаций поддерживается большой группой геологов, но конкретный механизм тектонического процесса до конца не выяснен. С.К.Нечитайло и др. (1959) предполагал, что в районе Ковернино-Тонково-Воротилово существует крупный выступ фундамента - “гнейсовый кряж”, и рассматривали “гнейсовую” брекчию как разрушенные коренные выходы гнейсов. В геологической литературе начал фигурировать Воротиловский выступ фундамента. После того, как скважина глубиной 1095 м так и не вышла из брекчированных и дислоцированных пород чехла и гнейсовой брекчии и после проведения геофизических работ, стало ясно, что никакого выступа фундамента не существует. Более того, породы фундамента имеют относительно плоский рельеф и залегают на глубине 1600-1700 м на всем пространстве Пучежско-Балахнинского района. Г.И.Горецким (1962) была выдвинута новая гипотеза, согласно которой формирование брекчированной дислоцированной толщи и вывод гнейсовых отторженцев почти к дневной поверхности обусловлен глубинной интрузией основных-ультраосновных пород, проникшей вверх на 1000 м. Восходящее движение этой интрузии и вызвало воздымание пород фундамента и чехла, их сильнейшую дислоцированность. Представления Г.И.Горецкого отражены на рис.63. Эта гипотеза вызывает следующие возражения: 1) геофизическими работами не зафиксировано массивов базит-гипербазитов в дислоцированной зоне. 2) Интрузии базит-гипербазитов не вызывают разрушений во вмещающих породах, даже отдаленно напоминающих вышеописанные. Можно констатировать, что кристаллические породы фундамента в составе тектонической брекчии и блоков-отторженцев были выведены по разломам почти к поверхности с глубины порядка 1600 м. Общая амплитуда вертикального поднятия аллохтонных приразломных блоков составляет более 1.5 км. Она суммируется из вдольразломного субгоризонтального (сдвигового) перемещения и последующего взбросового поднятия пластин, чешуй, тектонической брекчии. В отличие от гдовской дислокации породы фундамента здесь не выведены дневную поверхность (в скважине северо-западнее т.Тонково они залегают на глубине 91.5 м, и С.К.Нечитайло предполагается их еще более близкое (около 70 м) к поверхности залегание. Причиной этому, видимо, является факт залегания над разломной зоной мощной толщи (до 400 м) юрских глин. Глины являются некомпетентными, пластичными породами, в которых касательные тектонические напряжения рассредоточиваются, гасятся. Поэтому, хотя гнейсовая тектоническая брекчия и основательно внедрилась в юрские глины, но все же не прорвала оставшиеся 70-90 м. Тем не менее брекчированные породы платформенного чехла, сопряженные с гнейсовой брекчией, нашли выход на поверхность в ряде пунктов дислоцированной зоны. Прорыв этих пород на поверхность произошел на флангах мульдообразно залегающей толщи юрских глин, где их мощность резко уменьшается. Разрядка тектонических напряжений произошла по оперяющим взбросонадвигам (поддвигам), а не по осевому разлому (рис.64). Дислокации Пучежско-Балахнинского района ряд исследователей объединяет в единую региональную систему разломов северо-восточного простирания - Воротиловско-Карлинскую, причем возраст собственно Карлинской разломно-дислокационной зоны определяется как палеогеновый-послепалеогеновый (Разломы и горизонтальные движения..., 1977). Поэтому нет оснований удревлять северо-восточный фрагмент этой разломной зоны - Воротиловский. В более узком понимании возраст дислокаций - четвертичный. На разрезах, составленных Г.И.Горецким (1962) и С.К.Нечитайло (1959) брекчии и дислокации захватывают все породы чехла и выходят под голоценовые (Q4) отложения (рис.65). В этом плане можно присоединиться к большой группе геологов, которые уже давно рассматривают дислокации этого района, как четвертичные (связывая их с деятельностью плейстоценовых ледников). Четвертичный возраст дислокаций подтверждается и происходившими в этой структурной зоне историческими землетрясениями. Одно из наиболее крупных из них (18 июня 1596 года) зафиксировано в Нижегородской летописи (Маргелашвили, 1970). Таким образом, выведение пород фундамента сквозь осадочный чехол на поверхность (в виде приразломных блоков и тектонической брекчии) процесс реальный. Судя по широкому развитию в фундаменте и чехле разрывных образований разного порядка, можно предполагать и более широкое развитие этих процессов, тем более, что на неотектоническом этапе развития Русской платформы разломы испытали неоднократную активизацию. Эти вопросы подробнее будут рассмотрены в разделе о происхождении валунов кристаллических пород на Русской платформе.
“Тектоника осадочного чехла в подавляющем большинстве случаев вызвана деформациями фундамента”. Ж.Гогель (1969)
3.9. Конечно-моренные (краевые) образования Принято считать, что краевые (конечно-моренные) пояса в Европе, Северной Америке и в Западной Сибири фиксируют границы материковых отделений и их крупных стадий. Эти образования представляют собой протяженные холмисто-грядовые пояса общей длиной в десятки и сотни километров и шириной от сотен метров до нескольких километров. В плане они имеют линейные, дугообразные или фестончатые формы и выделяются в рельефе в виде системы гряд и холмов, чередующихся с ложбинами и впадинами. Их относительные превышения составляют десятки метров, иногда до 120-175 м, реже более. До недавнего времени считалось доказанным, что конечно-моренные пояса сформировались в результате длительного стояния и таяния ледниковых покровов, принесших массу обломочного материала из центра оледенения и захваченного по пути их движения. Наиболее яркое описание этого процесса имеется в “Основах геологии” проф. В.Д.Панникова (1961): “Спускаясь со Скандинавских гор ледник разрушал их, отламывая куски скал, сглаживая и выпахивая по пути Балтийский массивно-кристаллический щит. Ледник с особой легкостью захватывал рыхлые осадочные породы. Захваченные по пути обломки скал ... переносились ледником на тысячи километров, а после его таяния весь принесенный материал оставался... В тех районах, где ледник оставался продолжительное время на одном месте, у его краев возникали гряды конечных морен в виде длинных холмистых валов” (стр.276). Точно также, хотя и не столь ярко, трактуется механизм формирования конечных морен на Русской равнине в учебнике “Общая геоморфология” проф. О.К.Леонтьева и проф. Г.И.Рычагова (1979). Традиционный процесс формирования конечно-моренных поясов путем сгруживания ледником принесенного материала приводится в книге проф. К.И.Лукашева “Геология четвертичного периода” (1971). Моренно-осыпной механизм по К.И.Лукашеву имел место при образовании крупных конечно-моренных возвышенностей Беларуси - Минской, Новогрудской, Ошмянской и других. На Валдайской возвышенности “на основные морены часто нагроможден материал конечных морен, разгруженный как в процессе наступания, так и отступания ледников” (стр.213). Ледниково-насыпной генезис конечных морен отстаивают В.В.Ершов, А.А.Новиков и Г.В.Попова (1986). На Русской равнине они выделили пять крупных конечных морен ледниково-насыпного типа. Такой же механизм формирования краевых морен принимается в капитальном труде акад. Д.В.Наливкина “Геология СССР” (1962): “В поясах стационарного положения края ледника возникает конечная морена: скопления обломочного материала, образующие высокие холмы, сменяющие друг друга и прослеживающиеся на многие сотни километров” (стр.121-122). В целом процесс образования краевых ледниковых поясов считался близким таковому для горно-долинных ледников, но гораздо масштабнее. Действительно, горно-долинные ледники формируют конечно-моренные (краевые) валы посредством сгруживания обломочных масс поверхностных и срединных морен к основанию ледника. Однако, принцип актуализма в данном случае по существу оказался невостребованным. Геофизические, геологические и геоморфологические исследования с применением бурения и дистанционных (космоснимки, аэроснимки) методов, выполненные коллективами геологов в разных районах Восточно-Европейской платформы неожиданно показали, что конечно-моренные пояса сложены не насыпной мореной, а дислоцированными породами мезозоя и кайнозоя и даже палеозоя. Более того, была установлена пруроченность краевых поясов к зонам разломов преимущественно субширотного простирания. Исследователи, установившие эти и ряд других важных закономерностей, тем не менее не отказались от ледникового генезиса этих поясов. Была выдвинута новая гипотеза их формирования - гляциотектоническая. Отошла в прошлое старая, добрая теория ледниково-аккумулятивного генезиса краевых поясов. Теперь ледниковому покрову на границах оледенений и стадий предстояло выпахивать, отторгать, собирать в складки породы платформенного чехла, действовать больше напором, чем аккумуляцией. Своеобразно был разрешен и вопрос сопряженности краевых образований и зон разломов: ледник использовал эти разломы как ослабленные зоны, благоприятные для более легкого отторжения горных пород. Кроме того, живущие разломы вызывали в краевой зоне ледника образование трещин, которые заполнялись мореной или песчаными осадками, а после таяния возникал холмисто-моренный или озово-камовый рельеф. На совещаниях по краевым образованиям в 1985 и 1990 гг. гляциотектонические воззрения господствовали уже практически безраздельно, также как до этого господствовала теория ледниково-аккумулятивного генезиса краевых поясов. Вместе с тем, и это надо признать, сторонниками новой концепции был собран огромный фактический материал по строению краевых образований. Ими было доказано чешуйчато-складчатое строение этих сооружений, доказана приуроченность их к сквозьчехольным разломам фундамента, активным на неотектоническом этапе. В целях более точного изложения материалов и выводов исследователей, изучавших краевые образования, выбран метод цитирования опубликованных данных с разбивкой их по регионам.
Западная часть Восточно-Европейской платформы. Беларусь Наиболее интересные данные по строению краевых образований получены для территории Беларуси, в пределах которой расположены крупные конечно-моренные пояса - возвышенности Минская, Новогрудская, Ошмянская, Оршанская, Волковыская, а также Копыльская и Мозырская гряды. Эти пояса принято рассматривать в качестве границ оледенений нескольких ледниковых эпох и их крупных стадий. По данным Э.А.Левкова (1980) в Беларуси “максимальные и стадиальные границы распространения разновозрастных ледниковых покровов значительными отрезками совпадают с разрывными нарушениями, установленными в коренных породах. Наиболее достоверно такое совпадение может быть доказано для последнего (валдайского) оледенения”. Устанавливаются совпадения краевых образований, а также озов, с разломами, в том числе “их размещение над разломными зонами и совпадение по ориентировке” (1980, стр.240-241). Более того, геологические материалы, в том числе бурение показывают, что дислокации складчато-чешуйчатого типа, характерные для краевых образований “отчетливо тяготеют к разрывным зонам. Эти разломы устанавливаются как в пределах выступов кристаллического фундамента, так и на рубеже крупных положительных и отрицательных структур..., разрывы зачастую прослеживаются в осадочном чехле с заметным смещением вплоть до фундамента” (Э.А.Левков, 1980, стр.104, 240). Важные сведения по строению краевых образований приведены Л.А.Нечипоренко (1985), который пришел к следующим выводам: “На размещение основных краевых гряд Белоруссии оказали структуры фундамента. Установлено, что краевые ледниковые формы, как правило приурочены к наиболее поднятым участкам кристаллических пород и к зонам активизировавшихся дизъюнктивных нарушений, реже они расположены на некотором удалении от разломных зон”. И далее: ”Краевые образования Оршанской возвышенности как бы прислонены с северо-запада к Центрально-Оршанскому горсту и северному его разлому... Формированию краевых ледниковых комплексов над выступами ложа и разломами способствовали аномалии геофизических полей (теплового и гравитационного)”. На доминирующую, если не решающую, роль разломной неотектоники в формировании краевых образований на севере Беларуси указывает В.Н.Губин (1990), согласно данным которого “рельеф краевой зоны поозерского оледенения отличается дискордантностью, наименьшей устойчивостью. Это обусловлено широким развитием здесь новейших тектоно-динамических процессов, вызванных позднечетвертичным тектогенезом и ротационным режимом земной коры”. “В полосе краевых образований, - указывает далее В.Н.Губин, - геодинамические зоны сопряжены с участками новейшей активизации Кореличского, Выжевско-Минского, Чашниковского и других разломов... Новейшие тектоно-динамические процессы контролировали формирование гляциодинамической структуры краевой зоны”. Выводы В.Н.Губина подтверждаются работами Б.Н.Гурского и Р.И.Левицкой (1990). Основываясь на материалах исследований более широкого регионального плана, они пришли к следующему важному заключению: “формирование краевых образований происходит под влиянием ряда факторов. Определяющим из них является тектонический, который часто проявляется в особенностях пространственного положения наиболее крупных краевых зон, отвечающих границам оледенений и крупных стадий. Особенно тесная связь существует между проявлениями неотектонической активности и главнейшими особенностями строения краевых образований (например, Белорусской гряды)”. Сопряженность разломов фундамента и краевых образований в южной части Беларуси доказывается в монографии А.В.Матвеева, Н.Н.Абрамленко и др. (1980). Согласно их данным “краевые образования, как правило, совпадают с зонами дизъюнктивных нарушений, активизировавшихся на неотектоническом этапе, при этом, чем значительнее была амплитуда движений, тем грандиознее возникали гряды” (стр.88). В другой работе А.В.Матвеев, Л.Ф.Ажгиревич и др. (1987) установили сопряженность конечно-моренной Браславской гряды (север Беларуси) с системой пересекающихся разломов. Новые данные по строению Ошмянской зоны краевых образований приводит Е.М.Комаровский (1992), по материалам которого “рассматриваемые краевые образования расположены... в тектонически нарушенной зоне северо-восточного борта Воложинского грабена. В литосфере здесь проявляется Ошмянская зона древних глубинных разломов, по которой развиты неотектонические дислокации” Е.М.Комаровский также установил, что в пределах Ошмянской разломной зоны отмечена связь геологического строения краевых возвышенностей со структурой коренного основания”. По Комаровскому мощные толщи отложений, имеющих чешуйчато-надвиговое строение “сосредоточены над разрывными нарушениями и совпадают с ними по ориентировке”. Современная активность разломов по сообщению Комаровского подтверждается имевшим место землетрясением силой 6 баллов. В заключении указывается: “Отмеченные соотношения краевых ледниковых образований и структуры коренного основания позволяют объяснить пространственное размещение, форму и стиль строения краевых образований активизацией древних разрывных нарушений Ошмянской зоны в антропогене” (Комаровский, 1992, стр.48). Факты, приводимые М.Е.Комаровским, Э.А.Левковым, Л.А.Нечипоренко, А.В.Матвеевым, В.Н.Губиным, Б.Н.Гурским и Р.Н.Левицкой, определенно свидетельствуют о тектоническом генезисе краевых образований. С неотектоническими движениями по разломам связано не только расположение краевых образований, но их морфология и даже стиль строения. Чего же боле...? И тем не менее, авторы, получившие эти ценнейшие фактические данные стоят на позиции ледникового (“гляциотектонического”) генезиса краевых образований. Из белорусских исследователей, кажется, только один Н.А.Капельщиков не пал ниц пред ледниковой теорией. На основании своих полевых работ, проведенных в белорусском Полесье он установил, что краевые гряды и песчаные грядово-холмистые комплексы “являются одним из признаков проявления в современной поверхности трещинно-разрывной тектоники коренных пород”. Выделяемые ранее формы ледникового рельефа имеют эрозионно-тектоническое происхождение (Н.А.Капельщиков, 1976).
Прибалтика На основании исследований в Прибалтике и в Подмосковье А.И.Гайгалас и М.И.Маудина (1990) пришли к выводам, что в этих разобщенных районах краевые образования имеют много общего. Ими установлено, что формирование “чешуйчатых и отторженцевых конечных морен происходило на границах тектонических блоков (разломов)”. Ими установлено, что в краевых моренах, сопряженных с зонами разломов, имеется примесь “глубинных элементов - галлия, бария, иттрия, иттерия и др.”. Они подтверждают тектоническую природу фестончатости краевых образований (которая используется для доказательства ледникового генезиса конечных морен) “Фестончатый рисунок краевых ледниковых образований в плане отражает тектоническую структуру фундамента”, - пишут А.И.Гайгалас и М.И.Маудина, связывая затем тектонические движения с ледниковой нагрузкой (1990, стр.33). Широко известные конечно-моренные образования Синие горы (Синемяэ) на северо-востоке Эстонии оказались сложенными дислоцированными породами кембрия и ордовика (А.Раукас и др., 1971). Геологическим картированием с применением бурения было установлено, что дислоцированная полоса сопряжена с зоной разрывных нарушений, ограничивающих эту структуру с северо-востока (Вехер, Мардла, 1969). Кроме того, “севернее Синих гор установлено складкообразное поднятие, в осевой части которого выходят песчано-глинистые отложения нижнего ордовика и нижнего кембрия”. Ранее о сопряженности Синих гор с разломной зоной писал К.К.Орвику (1960), а Э.Ю.Саммет (1961) пришел к выводу о их неотектоническом происхождении. На “Карте поясов краевых образований...” (сост. Е.П.Заррина, В.В.Квасов, И.И.Краснов, 1965) Жмудская (Жямайтийская) возвышенность показана как пояс краевых образований осташсковского оледенения. Детальные геолого-геофизические работы, проведенные А.И.Шляупой (1979), показали, что эта возвышенность находится в явной связи с геолого-тектонической структурой фундамента и палеозой-мезозойского чехла. “Немаловажную роль в образовании возвышенности сыграли неотектонические движения земной коры, особенно происходившие в течение позднечетвертичного периода”.
Северная и центральная часть Русской платформы Пионерной работой, в которой установлена прямая связь конечно-моренных образований с разломами фундамента, является большая статья В.И.Бабака, В.И.Башилова и Н.И.Николаева (1982). Проведя полевые работы, проанализировав геологические и геофизические данные, а также выполнив большой объем работ по дешифрированию аэроснимков нечерноземной зоны РСФСР, авторы пришли к выводу о разломно-блоковом строении этой территории и установили “...зависимость распределения конечных ледниковых образований от живущей блоковой структуры фундамента, ранее намеченную С.Бубновым, Г.Ф.Мирчинком и Н.И.Николаевым”... Подтверждено также, “что структуры новейшего этапа развития типа валов и приуроченные к ним локальные положительные структурные формы осадочного чехла располагаются над разломами фундамента, оправдывая их характеристику как прирзаломных структур, связанных с движениями отдельных блоков фундамента” (1982, стр.39). На “Карте поясов краевых образований...” (Е.П.Заррина, Д.Д.Квасов, И.И.Краснов, 1965) к поясам краевых образований московского оледенения и его стадий отнесены Смоленско-Московская возвышенность (длиной более 500 км) и Клинско-Дмитровская гряда. Исследования, проведенные М.П.Гласко и Е.Я.Ранцманом (1992), не подтверждают этого. По полученным данным “Смоленско-Московская возвышенность, Клинско-Дмитровская гряда и Окско-Москворецкая возвышенность приурочены к зонам сочленения крупных тектонических структур платформы, которые отличаются значительными амплитудами смещения поверхности фундамента.... Следовательно, пишут они, формирование этих морфоструктур обусловлено активностью дизъюнктивных нарушений фундамента, которые сквозь платформенный чехол отражаются в современном рельефе”. Как уже указывалось, к выводам о зависимости краевых образований Подмосковья (и Прибалтики) от структуры фундамента пришли А.И.Гайгалас и М.И.Маудина (1990).
Воронежский выступ фундамента По материалам А.А.Старухина (1985) “Новейшие структурные линии (флексуры, разрывные нарушения, зоны повышенной трещиноватости) на значительном протяжении контролируют южную границу морен Донского ледникового языка. Линия распространения Воронежского, Донского и Цнинско-Хоперского сектора ледникового языка проходит строго вдоль новейшей разломной линии унаследованной с докембрия и палеозоя” - пишет А.А. Старухин. По его же данным “максимальные мощности морен водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений... также приурочены к местам пересечения линейных новейших структур”. Чтобы объяснить причину сопряженности краевых ледниковых образований с разломными зонами фундамента, А.А.Старухин предлагает следующую теоретическую разработку: “Механизм соотношения между гляциогеоморфологией и новейшей структурой обуславливается как проявлениями новейших движений на момент оледенения, так и тепловым воздействиями, наиболее интенсивными вдоль унаследованных зон разрывных нарушений” (1985, стр.173). Такой механизм вряд ли способствует пониманию и без того загадочного ледникового процесса, но добавляет новые аргументы в пользу разломно-тектонического генезиса донских краевых образований.
Северная часть Украинского щита Сопряженность краевых образований и разломов фундамента отмечается и на Украине. По данным В.П.Палиенко (1987) на Украине “границы распространения краевых ледниковых образований контролируются крупными разломными нарушениями. Значительная часть краевых ледниковых образований напорного типа образовалась на стыках морфоструктур, испытавших контрастные неотектонические движения..., причем большинство из этих образований сосредоточено вдоль зон разломных нарушений: комплексы краевых ледниковых образований Ростанский, Старо-Выжевский, Буцынский, Датынский, Чернобыльско-Чистоталовский, Ирпено-Каменский и Каневский” (стр.145) В.П.Палиенко также установлено, что “приразломные напорные краевые ледниковые образования чаще всего наблюдаются в пределах крупных трансрегиональных шовных зон, характеризующихся мелкоблоковой структурой и повышенной неотектонической мобильностью “ (стр.145-146). Установлено также, что Каневские и Ольшанские дислокации приурочены к Головановской шовной зоне, дислокация горы Пивихи - к Западно-Ингулецкой шовной зоне. Ряд краевых образований “приурочен к активным в четвертичное время брахиантиклинальным структурам” (Палиенко, 1987, стр.146). Однако не все украинские геологи считают нужным привлекать ледник, чтобы установить генезис подобных структурных форм рельефа. Геологические, геоморфологические и буровые работы, приведенные в северной части Украинского щита позволили установить, что краевые “ледниковые образования”, другие типы “ледникового” рельефа, в том числе гляциодепрессии “созданы движениями неотектонических структур и представляют собой тектонопары, приуроченные соответственно к зонам сжатия и зонам растяжения” (В.М.Тимофеев, Ю.А.Кошик, А.А.Комлев, С.Ю.Бортник, 1990, стр.125). На украинском Полесье тектонический генезис песчаных гряд (считаемых краевыми формами) доказывают В.М.Тимофеев и С.Ю.Бортник (1989).
Северо-восток Русской равнины Геологи, изучавшие геологическое строение Печорской низменности и Большеземельской тундры уже давно указывали на сопряженность зон разломов фундамента и ледниковых форм рельефа и приводили доказательства их тектонического происхождения (П.Н.Сафронов, В.А.Дедеев, 1971; Г.Д.Удот, 1971; И.Л.Кузин, А.А.Ференц-Сороцкий, 1986). Но наиболее ярко сопряженность зон разломов и краевых образований описана А.С.Лавровым и Л.М.Потапенко (1987), которые следующим образом аргументируют условия формирования краевых форм рельефа на Лемьюсской возвышенности (бассейн р.Печора). “На первом этапе произошло разрушение краевой зоны ледника мощными зонами дробления, приуроченными к зонам глубинных разломов, что подтверждается комплексом геофизических данных. Ледниковый покров распался на обширные поля неподвижного льда, границы которых закреплены маргинальными формами - валами, грядами... Характерными являются очертания валов и уступов: они прямолинейны, ориентированы по странам света. Большинство этих форм, как и зоны дробления льда, ограничено или располагается над зонами тектонических разломов... проникающих в верхнюю мантию.” (1987, стр.39, 40). В.Е.Останин и Н.Б.Левина (1986) для восточной части Архангельской области также отмечают приуроченность ледниковых образований (в том числе отторженцев, гяциодислокаций и озов) к зонам активных разломов. “Вероятно трещины в леднике, - пишут они, имели общность с системой разломов в подстилающих породах” (стр.61). Изложенные данные по строению и закономерностям размещения краевых ледниковых образований на Восточно-Европейской платформе имеют первостепенное значение для установления действительного их генезиса. Эти данные могут быть кратко подытожены. 1. Установлена приуроченность краевых ледниковых поясов к скользьчехольным платформенным разломам и сопряженность тех и других. Приведены доказательства неотектонической активизации разломных зона фундамента - тех из них которые коррелируются с краевыми образованиями. Более того, установлено, что новейшие тектонодинамические процессы контролировали формирование не только конечно-моренных (краевых) поясов, но особенности их структурного строения. 2. Доказано чешуйчато-надвиговое строение грядово-холмистого рельефа конечно-моренных (краевых) поясов. Дислоцированные пласты (скибы, чешуи) частью имеют моноклинальное залегание, частью собраны в антиклинальные складки продольного сжатия с пологими или крутыми крыльями. Дислоцированные пласты сложены породами платформенного чехла - кайнозойскими, мезозойскими и палеозойскими. 3. В системе краевых образований выделяется несколько категорий разрывных структур: сквозьчехольные разломы фундамента, на которые “насажены” краевые образования и вторичные разрывы зон динамического влияния осевых разломов фундамента. С осевыми и оперяющими разломами связаны отторженцевые фации краевых образований. Вместе с тем выводы авторов цитируемых работ о ледниковом происхождении краевых образований малоосновательны по следующим причинам: а) Предлагаемый ледниковый механизм формирования краевых поясов не соответствует законам движения покровных ледников, реологическим и механическим свойствам льда. Исследователи упустили из виду основной механизм движения покровных ледников, заключающийся в обтекании льдом выступов ложа (обтекании, а не срезании и перемещении) путем пластических деформаций ледниковых масс и их частичного плавления под давлением. б) Напряжения сдвига на ледниковом ложе произвольно завышены в сотни раз, против замеренных и реально существующих в современных покровных ледниках. Хотя такие фантастические увеличения напряжений сдвига и сделаны в силу необходимости ледникового дислоцирования толщ горных пород и формирования краевых грядовых комплексов, их нельзя признать сколько-нибудь научно обоснованными. Теория ледникового происхождения краевых образований имеет и палеогеографические неувязки. Примером являются конечно-моренные гряды в Малоземельной тундре, отнесенные М.Г.Гросвальдом, А.С.Лавровым и Л.М.Потапенко (1974) к ледниковой стадии мархида. Гряды имеют чешуйчато-надвиговое строение и по взбросо-надвигам надвинуты на торфяно-болотные отложения с остатками древесной растительности. Абсолютный возраст этих органических остатков по радиоуглероду находится в диапазоне 9110-9900 лет тому назад (Гросвальд, Лавров, Потапенко, 1974). По данным этих же исследователей конечные морены стадии вельт, находящиеся севернее морен стадии мархида, имеют еще более молодой возраст. Парадокс заключается в том, что на период мархидского оледенения на севере Евразии имел место широко известный голоценовый климатический оптимум, когда лесная растительность продвинулась к северу на 200-400 км, по сравнению с современным ее положением. Радиуглеродные датировки древесины и торфа из голоценовых отложений времени климатического оптимума как раз соответствуют времени оледенения мархида (и предполагаемого времени оледенения стадии вельт) и не выходят за пределы интервала от 10 до 7.5 тыс.лет тому назад (И.Д.Данилов, Е.И.Полякова, 1986).
Краевые образования Западной Сибири Еще 15-20 лет назад считалось прочно установленным, что ледниковые покровы надвигались на Западно-Сибирскую низменность с Уральских гор, плато Путорана и Таймырского хребта. В соответствии с этим грядовый рельеф низменности рассматривался как конечные морены ледников, двигавшихся с запада на восток и с востока и северо-востока на запад и юго-запад. После появления новой гипотезы о ледниковом центре в Карском море покровный ледник уже перемещался с севера на юг. Прежние ледниковые критерии направления движения льда, в том числе разнос валунов, тихо и незаметно отошли в прошлое. Теорию центра оледенения на шельфе Карского моря развивают В.И.Астахов (1978), ученые Института географии РАН М.Г.Гросвальд, Д.Б.Орешкин и др., а также ученые Сибирского отделения РАН С.А.Архипов, И.А.Волков и другие. Шесть почти беспрерывных краевых ледниковых поясов от Енисея до Оби и от Таймыра до Ямала изображены на схемах, составленных М.Г.Гросвальдом (1983, 1988). Однако, к сожалению, плановое положение поясов и их протяженность имеют немного общего с фактическим положением вещей. 1. Грядово-параллельный рельеф, относимый Гросвальдом к краевым формам, имеет в Западной Сибири достаточно широкое развитие, но не образует какие-либо протяженные, а тем более беспрерывные пояса. Этот рельеф сложен не мореной, как полагает М.Г.Гросвальд, а еще ранее полагал Я.М.Гройсман (1953), а эоценовыми диатомовыми глинами и опоками. Других форм рельефа кроме морских террас и цепочек бугров пучения, которые, возможно, были приняты за краевые образования, в полосе изображенных краевых образований не имеется. 2. На схемах М.Г.Гросвальда гряды нередко изображаются в виде дуг, вогнутой стороной обращенных в сторону движения гипотетического Карского ледника, что должно указывать на напорные его действия. Эти построения, как и построения в пункте 1 легко опровергаются посредством дешифрирования аэроснимков и являются не более, чем декоративным оформлением новой теории шельфового оледенения арктических морей. Читателям, интересующимся фактическим расположением грядовых форм рельефа (параллельно-грядовый рельеф) следует обратиться к “Карте гидролинеаментов и зон параллельно-грядового рельефа Западной Сибири,” составленной П.П.Генераловым (1987), где поля этого рельефа (краевые образования Гросвальда и других ученых) закартированы с исчерпывающей достоверностью. Многолетние работы геологов-производственников (геолого-съемочные, геофизические, буровые работы) в разных районах Западной Сибири позволили решить проблему генезиса ледниковых образований. Краевые гряды, гляциодислокации, отторженцы, выделяемые учеными, имеют тектоническое происхождение. Одна группа таких образований связана с проявлениями разломно-складчатой тектоники и относится к типу крупных тектонических валов, имеющих антиклинальное строение (Сибирские Увалы), другая сформировалась под воздействием тектоники горизонтального сжатия и процессов глиняного диапиризма (Малососвинские краевые образования и гляциодислокации, Арка-Табъяхинские краевые гряды, Самаровские Юганские и другие гигантские отторженцы). Фактические материалы и выводы по тектоническому происхождению этих образований приведены в работах П.П.Генералова (1980, 1981а, 1981б, 1982, 1986, 1987), Р.Б.Крапивнера (1978, 1979, 1986, 1989, 1992, 1997), И.Л.Кузина (1981, 1987), И.Л.Кузина, А.А.Ференц-Сороцкого (1986), И.Л.Зайонца, С.И.Демуса, И.И.Смирнова (1985), И.Л.Зайонца, С.Я.Выдрина, И.И.Смирнова, А.Л.Клопова, Д.П.Куликова, С.С.Палкина, М.Н.Усманова (1987), Ю.Ф.Андреева (1958), Л.А.Миняйло (1985, 1987), И.И.Смирнова (1985, 1987), В.Н.Седова (1986), Н.Г.Чочиа, С.Г.Галеркиной и др. (1961), Е.П. Брагина (1985). Наиболее крупные и типичные краевые образования, гляциодислокации и отторженцы Западной Сибири рассмотрены в разделе 3.14.
3.9.1. О тектоническом факторе и ледниковых трещинах Совпадение простирания краевых образований и разломов фундамента привели многих ученых к выводу, что активизация разломов, вертикальные движения по ним способствовали образованию трещин в теле ледника “наступившего” на разлом. Как уже указывалось, по мнению исследователей разломы и разломные зоны определяли пределы продвижения ледника, определяли границы оледенений или крупных стадий (Э.А.Левков, А.А.Старухин, А.С.Лавров, Л.М.Потапенко, В.Н.Губин, В.Е.Останин, Н.Б.Левина, В.П.Палиенко, А.И.Гайгалас, М.И.Маудина). Трудно понять, почему ледник внезапно останавливался перед разломными зонами, словно волк перед красными флажками. Тем не менее теория существует и необходимость ее следующим образом сформулировал М.Е.Комаровский (1992): “Перемещение ложа ледника по разрывным нарушениям играло важную роль в качестве фактора заложения в леднике протяженного линейного пояса трещиноватости и края ледника, а также фактора, обеспечивающего проявление и форму гляцигенного структурообразования” (с.49). Известно, что скорость вертикальных блоковых движений на Восточно-Европейской платформе не превышает нескольких миллиметров в год (Н.И.Николаев, 1988). Известна также кратковременность эпох дегляциации (в рамках принятых палеогеографических схем). Сопоставление этих величин показывает нереальность воздействия вертикальных тектонических поднятий на трещинообразование в теле гипотетического европейского ледника. Ранее этот вопрос рассматривался И.П.Бакановой и Д.Б.Малаховским (1969, стр.72, 74), по расчетам которых за время дегляциации валдайского ледника амплитуда вертикальных блоковых поднятий могла составить всего несколько метров, что по их заключению лишает возможности связывать образование трещин в леднике с различными проявлениями тектоники. Более того, даже землетрясения не приводят к образованию необходимых трещин в теле ледника. Согласно В.Окко (1955) при землетрясениях в Исландии в ледниках, находившихся близ эпицентров землетрясений, не наблюдалось новообразования трещин, что В.Окко объяснялось пластичностью льда, а также возможностью быстрого залечивания трещин. Идея привлечения разломной тектоники к образованию ледниковых трещин (необходимых для последующего их заполнения мореной и флювиогляциалом) не имеет смысла и по другой причине: покровный ледник не несет на своей поверхности искомых масс обломочного материала, поэтому предусматриваемые трещины могут быть заполнены лишь твердыми атмосферными осадками или снежными заносами. Проблему совпадения краевых образований и разломов фундамента некоторые ученые пытаются решить и несколько иначе. А.А.Старухин (1985) и Л.А.Нечипоренко (1985) пишут о тепловом влиянии на ледник разломов и разломных зон, имея ввиду, что геотермический поток тепла в разломных зонах имеет повышенные показатели. А это в свою очередь должно приводить к трещинообразованию в леднике непосредственно в зоне “теплого” разлома и даже приостанавливать продвижение ледника. Такой механизм должен был обеспечить накопление ледникового материала над разломами и объяснить почему краевые гряды приурочены к оным. В рассуждениях А.А.Старухина, Л.А.Нечипоренко, других ученых есть своя логика, но все же их нельзя принять за основу. Покровный ледник есть функция климата, его развитие и существование обусловлено сочетанием низких температур воздуха и количеством снежных осадков. В этом плане можно сослаться на горно-покровный ледник Ваткайекудль (Исландия), зародившийся и существующий на горячей точке - на действующем вулканическом поле. Периодические подледные извержения, хотя и приводят к гигантским потерям массы ледника, он, тем не менее, каждый раз постепенно восстанавливает ее.
3.10. К механизму формирования краевых ледниковых образований На Восточно-Европейской равнине платформенные разломы, контролирующие размещение поясов краевых образований концентрически охватывают с юга и юго-востока Балтийский кристаллический щит. Эту особенность расположения краевых гряд валдайского, калининского и московского оледенения отмечали многие исследователи и она вошла в учебники по общей геологии. М.Саурамо (Sauramo, 1955) обратил внимание и на другой геологический аспект - на совпадение простирания краевых грядовых поясов с флексурными перегибами и разрывными нарушениями в чехле и фундаменте платформы. Эти нарушения были названы линиями перегиба или шарнирными линиями. М.Саурамо считал, что шарнирные линии в форме концентрических кривых плавно огибают Фенноскандинавский центр оледенения и фиксируют положение края ледников различных эпох и их крупных стадий. Отсюда совпадение простирания и сопряженность разрывных шарнирных линий с конечно-моренными (краевыми) поясами. Причину образования шарнирных линий М.Саурамо связывал с неравномерной ледниковой нагрузкой. В последующем схема М.Саурамо была уточнена В.К.Гуделисом (1973) и А.А.Никоновым (1977). По их данным шарнирные линии представляют собой как флексурные изгибы, так и разломы, они не столь плавны, как в схеме Саурамо, нередко изломаны в плане и подчинены структуре региона. Вопрос о шарнирных линиях подытожен Э.А.Левковым (1980), который пришел к выводу, что эти линии следует рассматривать как неотектонические нарушения, они на значительных отрезках соответствуют разломам, возникшим на платформенном этапе и затем возрожденным. По Левкову разрывные нарушения шарнирных линий, вместе с тем “обнаруживают связь с ходом дегляциации и их следует относить к гляцигенно-активизированным зонам” (стр.242). Таким образом, считается что до наступления ледникового периода, разломы, к которым впоследствии приспособились шарнирные линии, уже существовали. Ледник активизировал разломы, создал концентрическую сеть шарнирных линий и сформировал вдоль них пояса конечных морен. Вдоль разломов шарнирных линий, или их отрезков, многими исследователями фиксируются вертикальные блоковые поднятия, что, по мнению сторонников оледенений, ставит вопрос “какое по отношению к ледниковому покрову крыло разрывной зоны воздымалось, а какое опускалось” (Левков, 1980, стр.243). Механизм этих явлений рассматривался А.А.Никоновым, Э.А.Левковым, А.С.Лавровым, Ю.Г.Чугунным, А.В.Матошко. В обобщенном изложении Э.А.Левкова (1980) он сводится к следующему: “При наступании ледника происходило нагружение (ледником) проксимального крыла разлома, что вызывало нисходящее опускание данного крыла. При дегляциации же первым всплывал раньше освободившийся ото льда дистальный блок, а это еще больше увеличивало амплитуду смещения” (стр.243). При таком ледниково-клавишном механизме блоковых движений по унаследованным разломам амплитуда вертикальных поднятий составляла десятки, иногда 60-100 м (Левков, 1980). Соглашаясь с данными по вертикальным дифференцированным движениям по разломам, нельзя не отметить, что авторы таких построений не рассматривают разломно-дисклокационые процессы, вызванные эндогенными причинами и целиком полагаются на гляциоизостазию. Геолого-тектонические и геофизические доказательства малоосновательности теории гляциоизостазии приведены в одном из начальных разделов книги. Вместе с тем, учитывая, что разломные зоны шарнирных линий сопряжены с краевыми поясами вопрос ледниково-клавишного механизма движений по разломам приобретает принципиальное значение. Прежде всего возникают два вопроса. 1. Какова была мощность ледника в краевой зоне, вызвавшая знакопеременные движения по разломам. 2. Насколько обоснованы утверждения об остановке фронта ледника на означенных крыльях разломов.
Относительно первого вопроса имеются различные мнения. Э.А.Левков (1980,
стр.189), ссылаясь на материалы гляциологов, считает, что фронт ледника
имел толщину льда порядка 30 м, Ю.А.Лаврушин и Ю.Г.Чугунный ( 1982,
стр.89) полагают, что такой мощности ледника недостаточно и что толщина
днепровского ледника на периферии ледниковой лопасти была не менее 100
м. В антарктическом и гренландском ледниковых покровах толщина
фронтальной части льдов изменчива и, в зависимости от рельефа колеблется
от первых десятков метров до 100-150 м. Видимо цифру 150 м следует взять
за основу, тем более, что имеется приближенная природная модель
эквивалентная такой толщине ледника. В.Станковский (Stankowsky,
1988) изучил реакцию давления толщи рыхлых отложений в основании насыпи,
равное давлению 90-метровой толщи льда и реакцию давления рыхлой толщи в
глубоком котловане, равную давлению 170- Наблюдения показали, что имевшие место статичные нагрузки не ведут к нарушению сплошности отложений или какой-либо их деформации ни в основании насыпи, ни разрезе котлована. Можно, конечно, директивно увеличить толщину ледника в его фронтальной части в 10 раз - соответственно до 1.5 км в краевой зоне и порядка 15-20 км в центре оледенения. Но лучше не уподоблять земную твердь плохо связанному плоту, когда “ступание” ледника на проксимальное бревно утопляет его в плювиальной хляби, и снова воздымает после перенесения тяжести на дистальное. Что касается второго вопроса, то вряд ли авторы разработки могут доказать, что фронт ледника становился во “фрунт” на проксимальном, а равно на дистальном, крыле разлома на всем его протяжении, Те или иные лопасти ледника могли досрочно пересечь зону разлома, тогда как другие, “в связи с неровностями рельефа”, могли поотстать. А это нарушает весь теоретический ход гляциоизостатического механизма активизации разломных зон. В весьма содержательной статье, опубликованной в журнале “Литосфера” (№ 1, 1994), Э.А.Левков и А.К.Карабанов при характеристике неотектонических разломов Беларуси и шельфа Балтийского моря уже не упоминают о гляциоизостатическом факторе и рассматривают вопросы разломообразования и неотектонических поднятий с позиций общей геотектоники. Это несколько неожиданно, так как эти авторы еще в статье 1992 г. писали о большой роли ледниковой нагрузки в активизации древних разломов Беларуси. В этом плане следует поддержать выводы названных авторов в публикации 1994 г. и рассматривать разломно-дислокационные процессы на платформе и щите с позиций общей геодинамики и общей геотектоники. Следует также руководствоваться материалами и выводами В.И.Бабака, В.И.Башилова и Н.И.Николаева (1982), установивших на Русской равнине зависимость расположения конечных “ледниковых” образований от живущей блоковой тектоники и определивших приразломный характер этих образований. М.П.Гласко и Е.Я.Ранцман (1992) также пришли к выводам о решающей роли эндогенных неотектонических движений в формировании рельефа центра Русской платформы. По их данным Смоленско-Московская возвышенность и Клинско-Дмитровская гряда (считаемые Е.П.Зарриной, Д.Д.Квасовым, И.И.Красновым, другими учеными конечно-моренными образованиями московского оледенения) “приурочены к зонам сочленения крупных тектонических структур, которые отличаются значительными амплитудами смещения поверхность фундамента... Следовательно формирование этих морфоструктур обусловлено активностью дизъюнктивных нарушений фундамента, которые сквозь платформенный чехол отражаются в современном рельефе” (Гласко, Ранцман, 1992). Таким образом, имеющийся обширный материал определенно указывает, что разломно-тектонические процессы, происходившие в позднем кайнозое на Восточно-Европейской платформе, включая Балтийский щит, имеют эндогенную природу. Происхождение системы разломов и генезис сопряженных с ними поясов краевых образований, образующих гигантскую дугообразную структуру, следует связывать с неотектоническим развитием крупнейшего в Европе выступа кристаллического фундамента - Балтийского щита. Тектоническая активизация щита, знакопеременный тип сводовых движений, оживление авлакогенов Балтийской впадины и образование систем неотектонических разломов вызваны горизонтальным тектоническим давлением с северо-запада. На это указывает северо-западная ориентировка осей наибольшего горизонтального сжатия в горных породах Фенноскандии (П.Н.Кропоткин, 1971). Второй вопрос, чем вызвано однонаправленное горизонтальное давление должен решаться в рамках концепции позднекайнозойского раскрытия и формирования океанической впадины Ледовитого океана и новейшего спредингового расширения океанического дна Северной Атлантики. Формирование котловины Северного Ледовитого океана в новейший тектонический этап доказывает Ю.Н.Кулаков (1983), он же указывает на интенсивные спрединговые явления в сопредельном Атлантическом секторе Арктики. О кайнозойском раскрытии впадины Ледовитого океана писали Б.Х.Егиазаров и др. (1977). Знакопеременные - восходящие и нисходящие движения Балтийского щита привели не только к активизации разломной сети щита, но и вызвали волнообразное коробление погребенного кристаллического фундамента платформы, привели к формированию системы концентрических разломов, отвечающих шарнирным линиям Саурамо. Эти разломы следует рассматривать как разломы зоны динамического влияния Балтийского щита. Тектонические напряжения, возникающие в фундаменте платформы, концентрировались и реализовывались в определенных интервалах или зонах напряженности. При этом для разломообразования и формирования системы концентрических дугообразных разломов использовалась регматическая сеть разрывов ротационного происхождения - те из системы разрывов, которые совпадали с зонами тектонической напряженности или лежали в ее поле. Отсюда неполная дугообразность разломов, изломанность и фестончатость их в плане. Разломы, сформировавшиеся в зоне динамического влияния Балтийского щита, относятся к типу адаптивных разломов, приспособившихся к регматической сети разрывов и унаследовавших их крутое падение. Дальнейшее развитие системы дугообразных разломов происходило преимущественно в режиме горизонтального тектонического сжатия. На это, прежде всего, указывают установленные многими исследователями вертикальные (взбросовые) блоковые поднятия, вертикальные перемещения крыльев разломов с элементами надвигания одного крыла на другое, а также чешуйчато-надвиговый тип надразломных структур чехла. О развитии разломов в режиме горизонтального тектонического сжатия свидетельствуют многочисленные данные о выведении по ним на поверхность отторженцев - аллохтонных пластин пород глубоко залегающего чехла. Некоторые разломы шарнирных линий существуют в режиме растяжения, например, Балтийско-Ладожский глинт, по которому установлены сбросы с амлитудой 20-50 м (Э.Ю.Саммет, 1961). Существование системы разломов в режиме тектонического сжатия, взбросовые и, возможно, сдвиго-взбросовые движения по ним, привели к дислокационным нарушениям пород платформенного чехла, к формированию надразломных и приразломных чешуйчато-надвиговых структур, все еще относимых к краевым ледниковым образованиям. Тектонический генезис поясов краевых образований основывается на системе данных, образующих единый парагенетический ряд. 1. Сопряженность сквозьчехольных разломов фундамента и краевых грядовых комплексов, совпадение простирания разломных зон и поясов краевых образований, надразломное или приразломное положение последних. 2. Субвертикальные (взбросовые) движения по разломам, сопряженным с краевыми образованиями. 3. Чешуйчато-надвиговая (скибовая) структура краевых образований, как результат взбросо-надвигового перемещения по вторичным разрывам чешуй платформенного чехла. Заключения по первым двум пунктам сделаны по материалам собранным и подтвержденным самими сторонниками оледенений и вполне согласуются с их выводами (о чем свидетельствует большой объем материалов, приведенных в начале раздела). Чешуйчато-надвиговое строение краевых образований также установлено, в основном, сторонниками их ледникового происхождения. Малоосновательность ледниковой точки зрения и всего ледникового механизма их формирования показана ранее. Тектоническое происхождение краевых образований основано на отмеченных в п.п.1-3 фактах и обусловлено самим механизмом взбросовых смещений по разломам. Как известно, различаются следующие типы взбросовых тектонических перемещений: а) близвертикальные восходящие перемещения блоков фундамента, ограниченных разломами; б) надвигание одного крыла разлома на другое; в) перемещение сколовых пластин вверх по восстанию разлома. В природе наблюдается сочетание этих типов смещений. Моделирование взбросовых процессов проводилось рядом исследователей. А.Сэндфорд (1959; приводится по Р.Б.Крапивнеру, 1992) на моделях показал, что при медленном поднятии прямоугольного жесткого штампа максимальные напряжения и деформации концентрируются над вертикальными боковыми гранями штампа. В этих зонах в связи с наличием поперечной упругой деформации слоев, помимо вертикальной, появляется горизонтальная составляющая смещения, величина которой возрастает вверх по разрезу. Над боковыми гранями штампа возникают криволинейные, выпуклые вверх взбросы, сместители которых выполаживаются в сторону относительно опущенного блока. М.В.Гзовским (1975) также было показано искривление траекторий упругих напряжений в опытах с прямоугольным штампом. Он установил, что приповерхностное выполаживание вторичных разрывов выражено наиболее четко, если главные разломы являются взбросами. Результаты моделирования показывают, что в природных условиях при блоковых вертикальных поднятиях формируются крутопадающие выпуклые вверх вторичные взбросы, которые вблизи дневной поверхности выполаживаются и переходят в надвиги. При этом выпуклая вверх форма сместителя вторичных взбросов является причиной возникновения поверхностных надвигов. В тех случаях, когда вторичные взбросы выполаживаются и по восстанию переходят в плоскости межпластового скольжения над ними формируется складка, или серия складок надвигового типа. Падение крыльев складок (чешуй, скиб) может быть крутое или более пологое, ориентировано оно в сторону поднятого борта главного разлома. В крутопадающих разломах адаптивного типа, каковыми являются разломы шарнирных линий, процесс взбросового скалывания пород может происходить до выполаживания сместителя до угла порядка 45о, более характерного (но необязательного) для структур скалывания и взбросов, возникающих при одноосном горизонтальном тектоническом давлении. Поэтому в адаптивных разломах-взбросах объем и количество сколовых пластин может быть выше, чем в новообразованных взбросах. В соответствии с результатами моделирования и данными геологических исследований, выположенные взбросовые пластины выводятся на поверхность. В дальнейшем при продолжающемся тектоническом сжатии происходит выдавливание пластин-чешуй, их некоторое надвигании на поверхностные отложения, скучивание в грядовые надразломные и приразломные морфоструктуры чешуйчато-складчатого строения. Падение надвиговых складок зависит от вектора надвиговой (взбросовой) составляющей и направлено в сторону поднятого крыла разлома. В условиях преобладающего геодинамического влияния Балтийского щита на северо-западную часть Русской равнины, происходило некоторое надвигание, а чаще всего давление северных бортов разломов на южные, что вызывало падение выведенных пластин-чешуй в северном направлении. На территориях динамического влияния Украинского щита могут иметь место и обратные азимуты падения надвиговых чешуй. Для рассматриваемых платформенных взбросов величина надвигания одного крыла разлома на другое невелика, обычно несколько десятков метров. Чаще всего взбросовая составляющая выражена в вертикальных перемещениях бортов разлома - в блоковых дифференцированных движениях с амплитудой порядка нескольких десятков метров, реже более. Реализация горизонтальных сжимающих напряжений, в основном, происходит посредством перемещения по восстанию разлома сколовых пластин, выведения их на поверхность и вовлечения в надвиговой дислокационный процесс приповерхностных пород и отложений. Приповерхностные надвиговые перемещения могут достигать нескольких сотен метров. В строении рассматриваемых приразломных структур помимо пластов и чешуй разреза чехла (являющихся отторженцами) участвуют четвертичные отложения, в том числе “морена”. Генезис “морены” рассматривается в специальной главе, здесь можно отметить, что “морены”, зажатые между надвиговыми пластинами или подстилающие их, имеют признаки тектоно-динамического воздействия и их следует относить к брекчиям трения. Помимо разрывных структур субширотного простирания, важное значение имеют радиальные разломы, поперечные им. Эту систему разломов еще 100 лет назад выделил А.П.Карпинский и она носит название “линии Карпинского”. К числу наиболее крупных радиальных разломов относятся Кандалакшская, Онежская, Ладожская и Чудская зоны. По ряду признаков радиальные разломы являются сдвигами (и взбросо-сдвигами). Система сдвиговых разломов установлена в Кандалакшском и Ладожском грабенах (В.Г.Чувардинский, 1989, 1992). Имеются признаки сдвиговых смещений по радиальным разломам в Онежской структуре и Чудской зоне разломов. С радиальными разломами связано формирование ряда дислокационно-отторженцевых структур, что рассматривается в соответствующем разделе.
3.10.1. Краевые образования и соляные структуры Из приведенных материалов достаточно определенно вытекает, что неотектоническая активизация разломов, движения по ним привлекаются сторонниками оледенений в качестве первопричины образования трещин в краевой части ледникового покрова, для их последующего заполнения ледниковыми отложениями. Однако, в ряде районов Европы для формирования конечных морен не потребовался разломно-тектонический фактор. В таких районах не разломы фундамента способствовали леднику формировать конечные морены, а растущие соляные структуры. Сведения о таких необычайных процессах суммированы в книге Э.А.Левкова “Гляциотектоника” (1980). Они излагаются ниже. Наблюдениями Г.Штайнерта на Северо-Германской низменности было установлено, что “конечные морены повторяют контуры подземных соляных структур, огибая их вершины”. По Г.Штайнерту для образования конечных морен ледник использовал складки на поверхности соляных структур, активизировал рост соляных штоков, что затрудняло движение ледника, вызывая его остановку и как следствие этого -формирование конечных морен. Довольно сложный механизм, особенно если учесть, что “конечные морены” повторяют контур подземных соляных структур. Г.Фите в восточной части Германии в крупных соляных структурах (соляные шахты Шперенберг, Сагенберг, Люндберг) также установил приуроченность краевых образований к соляным куполам. В Дании И.Мадирацца отметил прямую зависимость расположения конечных морен от контуров соляных структур. Он установил, что соляные структуры, вмещающие конечные морены, растут дифференцированно, путем неравномерного поднятия отдельных штоков, что создает сложный холмисто-моренный рельеф поверхности куполов. В Припятском прогибе по данным Э.А.Левкова также наблюдается рост многих соляных куполов, при этом конечные морены группируются у бортов куполов. Представляют интерес также данные В.Г.Бондарчука (1961) о связи между соляными структурами в Припятском прогибе и Донецко-Днепровской впадине и краевыми образованиями, а также с крупными отторженцами. Авторы ледниково-солянокупольного происхождения конечных морен не приводят материалов по строению шляпы (кепрока) соляных структур, не касаются вопросов воздействия растущих соляных куполов на вмещающие и перекрывающие отложения. Вместе с тем уже достаточно давно известно, что соляные купола нередко окружены оторочками и валами грубообломочных масс, состоящих из обломков пород, поднятых из разреза чехла при росте соляных структур. И.В.Мушкетов и Д.В.Мушкетова (1935) указывают, что соляные купола в Румынии окружены брекчией из черных глин, содержащих обломки нижележащих олигоценовых отложений, юрских известняков и даже гранитов. По тем же данным в Алжире, Испании, Германии, Италии соляные структуры окружены аккумуляциями обломочных пород, проткнутых солью, а также поднятых апикальными частями куполов. При этом в Каталонии и Андалузии соляные купола выносят на поверхность даже обломки зеленокаменных пород. Соляным куполам Волго-Эмбенской области также присущи процессы выведения на поверхность обломков перекрывающих и вмещающих пород, с образованием своеобразной брекчии трения “в состав которой входят обломки и громадные глыбы самых разнообразных пород и отложений” (Д.В.Наливкин, 1962). Г.Н.Сапфиров (1982) указывает, что мощности каменных шляп, венчающих соляные купола, могут достигать нескольких десятков метров и более, Шляпы содержат в себе набор разных по составу пород чехла, поднятых до поверхности. Таким образом, соляные структуры выводят на поверхность брекчии трения, сложенные породами из разреза чехла, громадные глыбы (отторженцы) и даже обломки кристаллических пород. Большие массы обломочного материала выводят к поверхности шляпы соляных куполов. Эти отложения сползают с растущих соляных куполов к их основанию, заполняют складчато-разрывные отрицательные формы на поверхности структур и формируют “моренные гряды” и “моренные” отложения. Этим и объясняется, подмеченное Г.Штайнертом, огибание “конечными моренами” вершин соляных куполов и повторение ими контуров подземных соляных структур. Утверждать ледниковый механизм этих явлений значит предполагать несколько мифические способности ледника к геологическому картированию. С рассматриваемой проблемой связан и вопрос нахождения в “моренах” соляных валунов. Валуны галитов нередки в четвертичных отложениях Беларуси, Литвы, найдены они в российских областях и используются для доказательства ледникового генезиса этих отложений. Ледниковое происхождение валунов галита аргументируется тем, что “палеогеографические условия плейстоцена в области материковых оледенений не допускает выходов эвапоритовых отложений на поверхность (Э.А.Левков, 1980, стр.245), Формула “только ледник”, конечно, удобна, но геологические исследования разных авторов показывают, что выведение отторженцев и валунов галитов в составе соляных брекчий явление достаточно обычное для активно растущих соляных куполов. Поэтому нахождение валунов галитов в “морене” как раз указывает на ее неледниковый генезис.
3.11. Отторженцы, дислокации Помимо дислокаций и отторженцев, входящих в структуру “краевых образований”, на Восточно-Европейской равнине и в Западной Сибири имеются многочисленные отторженцы и дислокации, связанные с разломами других систем и диапировыми структурами. Наиболее хорошо эти образования изучены в Беларуси, на Украине, в Западной Сибири, при этом дислокации и, особенно, гигантские отторженцы принято рассматривать как иллюстрацию огромной выпахивающей и транспортирующей деятельности ледника. Самым крупным сосредоточением грандиозных отторженцев является Вышневолоцко-Новоторжский вал в Тверской области. Его длина 120 км, ширина 10-15 км, относительная высота 70-87 м (А.Н.Москвитин, 1938; Д.Б.Малаховский, Э.Ю.Саммет, 1982). Согласно этим исследователям часть отторженцев, составляющая вал, принесена ледником из района Валдая за 150 км (каменноугольные породы), а другая (отложения кембрийской и ордовикской систем) за 330 км из района Финского глинта. Первоначальное местоположение верхнедевонских отторженцев вала не определено. Гигантский Рованичский отторженец кембро-силура в Беларуси считается перенесенным из района Финского глинта за 500 км (Е.В.Шанцер, 1966). Д.Б.Малаховский и А.В.Амантов (1991) удлиняют это расстояние до 600 км, но сохраняют начальное и конечное его местоположение. Однако рекорд пока остается за феноменальным отторженцем олигоценовых песков в низовьях Иртыша, который по О.Н.Жежель и др (1971) принесен ледником за 650 км из верховий р. Сев.Сосьва, где имеются обнажения этих песков. (В районе отторженца олигоценовые пески слагают разрез осадочного чехла на глубине 400 м). Открытия все большего числа гигантских отторженцев у некоторых сторонников оледенений не всегда вызывают былой энтузиазм, так как грандиозность явления и многосоткилометровая ледниковая транспортировка “целых гор” не вписывается даже в ледниковые каноны. Некоторые геологи даже пишут “о непонятности механизма перемещения ледником целых гор” (А.И.Москвитин), другие указывают, что порой “проявления механической роли ледников настолько грандиозны, что мы становимся перед ними в тупик” (В.Г.Хименков). А Н.И.Кригер предлагает искать новые модели и механизмы для объяснения подобных природных феноменов. Классификация имеющихся моделей ледникового образования гляциодислокаций и перемещения отторженцев выполнена Э.А.Левковым (1980). Основными модельными механизмами являются: 1. Бульдозерный эффект - срыв ледником крупных блоков и пакетов горных пород и последующее их перемещение бульдозерным способом. 2. Действие ледника наподобие колоссального плуга, который выпахивает ложбины и перемещает отторгнутый материал на сотни километров. 3. Срыв блоков и пакетов пород под покровом льда, в результате горизонтального напора льда, и затаскивание пород по плоскостям внутриледниковых сколов. 4. Выдавливание ледником податливых отложений, срыв их и ледниковое перемещение. Указанные модели были критически рассмотрены Э.А.Левковым (1980), который пришел к следующим выводам. 1. Гипотеза бульдозерского эффекта отторжения и перемещения ледником гигантских отторженцев на сотни километров вызывает большие трудности. Для образования мощных гляциодислокаций и отторжения громадных блоков пород и отложений требуется тангенциальное давление ледника в сотни кг/м2, которое неспособен иметь ледник в своей краевой зоне. К тому же толщина отторженца иногда оказывается больше толщины льда в этой зоне. 2. Гипотеза эффекта большого ледникового плуга, выпахивающего ложбины и перемещающего выпаханные толщи отложений, Э.А.Левковым не анализируется. Надо сказать, особой четкостью гипотеза большого плуга не отличается. Не перепутали ли авторы гипотезы местоположение тягловой силы. Обычно волы идут впереди плуга. Если же ледник толкает плуг без волов, то это будет лишь разновидность бульдозерной гипотезы. Критику можно ограничить пунктом 1. 3. Ряд трудностей, по заключению Э.А.Левкова, вызывает и гипотеза отчленения и срыва пакетов пород под ледником и затаскивание их в ледниковую толщу по плоскостям внутриледниковых сколов. Разновидностью этой модели является предполагаемое внедрение в толщу ледника диапировых структур. Все эти процессы по мнению автора модели Ю.А.Лаврушина (1976) происходят “под покровом льда внутри ледникового щита”. Э.А.Левков справедливо указывает, что ближе к центральным частям ледникового покрова скалывающие усилия ледника (и без того слабые В.Ч) ослабевают. Поэтому глубоко во льду трудно ожидать больших напряжений. К этой критике можно добавить что в покровных ледниках не существует внутриледниковых сколов таких феноменальных размеров, чтобы по ним можно было затащить внутрь ледника такой пояс отторженцев как Вышневолоцко-Новоторжский вал или гигантский отторженец Раушские горы в Германии, или другие значительно меньшие отторженцы. В современных ледниках по внутриледниковым сколам затягиваются тонкие миллиметровые и сантиметровые прослои рыхлых отложений, да и то неглубоко. На схеме Ю.А.Лаврушина (1976, фиг.87 в книге Лаврушина) изображено затаскивание отторженцев до центральных частей разреза ледникового щита. Ни бульдозерный эффект, ни эффект большого плуга не могут освоить этот механизм. Для того, чтобы внедрить отторженцы в тело ледника и поднять их на высоту до 1/2 толщины ледника, видимо, требуется эффект большого домкрата. Трудно ожидать сохранения отторженцев осадочных пород, в том числе глин, песков, при их бульдозерном толкании или волочении по пересеченной местности на расстояния в сотни километров. Видимо поэтому в книге “Геология СССР” (1962, стр.145) предлагается усовершенствованный бульдозерный способ отторжения и перемещения отторженцев, которые происходят, “когда острый край ледникового покрова, встречая препятствие, врезается под него, поднимает оторванную глыбу на свою поверхность и переносит, иногда на сотни километров”. Это самый удобный способ захвата и переноса отторженцев, но прямые наблюдения за движением ледникового покрова Антарктиды показывают, что “у препятствий (скалы) движение ледника может прекратиться полностью, что отмечено у пос.Мирный” (К.К.Марков и др. “География Антарктиды”, М., 1968). Поэтому на врезание ледника под выступы горных пород и последующее поднятие оторванных отторженцев “на поверхность ледника” трудно рассчитывать. Если бы ученые обратились к результатам изучения динамики современных ледников, то все перечисленные гипотезы можно было бы благополучно сдать в архив. Гляциологи, изучающие современные ледники видят совсем иные процессы, чем это требуется для обоснования четвертичного оледенения и разного рода ледниковых эффектов. В.Г.Ходаков в книге “Снега и льды Земли” (1969) пишет: “Непосредственные исследования наступающих горных ледников (обладающих бóльшей энергией, чем покровные ледники В.Ч.) показывают, что они натекают на препятствия и действуют не как бульдозер, а скорее как гусеницы трактора” (стр.74). Э.А.Левков развивает гипотезу выдавливания пластов пород из-под края ледника и скучивания их в скибовые сооружения. Как всегда, идея заимствована у западных сторонников оледенений. Р.Б.Крапивнер (1992а), в рамках широкой критики гляциотектонических гипотез, подверг критическому анализу и эту гипотезу и показал, что породы ледникового ложа не могут быть проведены в предельное напряженное состояние и не могут быть дислоцированы ледником. Однако модель Э.А.Левкова имеет и положительные стороны. Следует, прежде всего, отметить приводимый им большой и разносторонний фактический материал. Кроме того, модель Левкова по существу показывает (и это надо признать), что ледник не мог создать те гигантские дислокации и транспортировать отторженцы, которые фигурируют в геологической литературе, как примеры масштабной деятельности ледника. На основании данных по изучению физико-механических свойств горных пород и рыхлых отложений Э.А.Левковым проведена их классификация по степени устойчивости к воздействию ледникового давления (1980, стр.189-191): 1. Слабые грунты - увлажненные глины, бурый уголь, торф, мергель, мел, тонкая супесь, которые под давлением ледника могут быть приведены в напряженное состояние и выдавлены из-под него. 2. Среднеустойчивые грунты - гравийно-галечные отложения, морена, разнозернистые пески, валунные пески и тому подобные отложения. Физико-механические свойства этих отложений позволяют выдерживать ледниковую нагрузку без каких-либо нарушений, или же для нарушения их сплошности необходима толщина ледника в краевой зоне до десятков километров, что пока не допускается ледниковой теорией. 3. В третью группу объединены породы жесткого основания - известняки, доломиты, песчаники, сланцы и все кристаллические породы. Они могут выдержать любое ледниковое давление, в том числе наклонную полубесконечную нагрузку (введена Э.А.Левковым). С такими выводами можно согласиться, но с одним замечанием: в условиях вечной мерзлоты (а таковая в условиях вечной ледниковой зимы должна предусматриваться теорией) глинистые породы по прочностным свойствам приближаются к полускальным, жестким грунтам (Цытович, 1973). Будучи в вечномерзлом состоянии, подобные породы приобретают большие прочностные свойства и переходят в группу среднеустойчивых пород, “благополучно” выдерживающих ледниковое давление. Вместе с тем, бóльшая часть дислокаций и отторженцев сложена породами и отложениями среднеустойчивой и “жесткой” групп - известняками, “мореной”, галечниковыми песками, доломитами, разнозернистыми песками. И, хотя Э.А.Левков указывает, что если под породами, неподдающимися воздействию ледника, лежат слабые грунты-глины, торф, мел, то может возникнуть эффект выдавливания и дислоцирования пород, это условие соблюдается очень редко, а при существовании вечной мерзлоты оказывается недейственным. На основании инженерных расчетов Э.А.Левков пришел к следующему важному заключению: ”В тех случаях когда вычислялась нагрузка, требуемая для приведения в предельное состояние грунтов с большим углом внутреннего трения (например для разнозернистых песков или песчано-гравийных отложений), оказывается, что для срыва подобных толщ необходимы мощности льда, значительно превышающие реально возможные (многие километры или даже десятки километров для краевой области” (Левков, 1980, стр.189). Такая толщина ледника не предусматривается даже в центре оледенения и палеогеографы пока ограничиваются мощностями льда 3-4 км. Стало быть, от отторжения и дислоцирования ледником песчано-галечниковых, песчаных, валунно-песчаных отложений, а также известняков, доломитов, песчаников, гнейсов и других кристаллических пород необходимо отказаться. Или увеличить толщину ледника в краевой зоне до 10 км и более. В этом плане представляют интерес многочисленные дислокации в четвертичных отложениях Карело-Кольского региона - в валунно-песчаных (“морене”), гравийно-галечниковых, разнозернистых песках, слагающих краевые образования, друмлины и грядово-холмистый рельеф. Эти дислокации в качестве ледниковых, рельефообразующих описаны А.Д.Лукашовым, В.А.Ильиным, С.И.Рукосуевым, Г.С.Бискэ, В.Я.Евзеровым, В.В.Колькой и другими. В отличие от Беларуси, где дислокации иногда подстилаются глинами и мелом, в Карело-Кольском регионе в подошве дислокацией залегают кристаллические породы архея и протерозоя. Поэтому, ледникового дислоцирования валунно-песчаных отложений происходить не могло (или же, как указывает Э.А.Левков, для этого потребовался бы ледник толщиной 10 км).
Особенности строения “гляциодислокаций” скибового типа В платформенном чехле европейских равнин и Западной Сибири довольно широко распространены дислокации чешуйчато-надвигового (скибового) типа. По установившейся традиции их принято относить к гляциодислокациям (гляциотектоническим дугам и гирляндам). В рельефе они выражены в виде серии кулисообразных гряд параллельных друг другу. В плане грядовые комплексы дугообразны или прямолинейны. Наиболее хорошо они изучены в Беларуси, где по данным Э.А.Левкова (1980) представляют собой аллохтонные чешуи платформенного чехла, надвинутые друг на друга. В строении этих чешуйчато-надвиговых сооружений принимают участие породы палеозоя (из нижних частей разреза чехла), мезозоя и кайнозоя. Рассматриваемые дислокации, сопровождаемые отторженцами глубоких горизонтов чехла, считаются бескорневыми. Но вместе с тем установлена их сопряженность с разломами фундамента. По Э.А.Левкову, характерная черта скибовых нарушений заключается в их нередкой приуроченности к разломным зонам. При этом разломы прослеживаются в осадочном чехле с заметным смещением вплоть до фундамента (1980, стр.104). Детальное изучение гляциодислокаций и проявлений неотектоники привели Э.А.Левкова к важным заключениям: 1) “Гляциотектонические гирлянды (дислокации складчато-чешуйчатого типа) отчетливо тяготеют к разломным зонам (1980, стр.240) и 2) “Парагенезис многих гляциодислокаций с разломами позволяет предположить, что первые являются своеобразными признаками активизации вторых” (1980, стр.254).
3.11.1. Механизм формирования “гляциодислокаций” и отторженцев Платформенные разломы, контролирующие размещение “гляциодислокаций” и сопряженных с ними отторженцев, преимущественно принадлежат к системе радиальных разломов. Частью они связаны с диагональными субширотными системами разломов и рассмотрены в разделе “Конечно-моренные образования”. Радиальные разломы, намеченные еще А.П.Карпинским, по ряду признаков следует относить к сдвигам. На это указывает большая протяженность (десятки, сотни километров), прямолинейность и сквозьструктурный характер разломов. К признакам сдвиговой природы разломов относится, развитие в зоне их динамического воздействия чешуйчато-складчатых структур (кулисообразного параллельно-грядового рельефа), относимого к “гляциодислокациям скибового типа”. Разломно-тектонический генезис этих дислокаций по существу предопределен их сопряженностью с разломами сдвигового типа или как цитировалось выше, “парагенезисом гляциодислокаций и разломов”. Дислоцированность осадочного чехла платформы, скучивание аллотонных пластин пород чехла в чешуйчато-надвиговые морфоструктуры является следствием реакции осадочного чехла на сдвиговые смещения по разломам фундамента. В этом плане дислокации и сопутствующие им отторженцевые фации могут рассматриваться как надразломные (чехольные) зоны динамического влияния сдвигов. По существу подобные явления на моделях и в природе ранее были изучены С.Стояновым (1977) и Ж.Гамоном (1983) и описаны Р.Б.Крапивнером (1986) на о.Колгуев, на Ямале и на Камчатке. Результаты этих исследований сводятся к следующему: сдвиговые смещения по разломам фундамента (или жесткого основания), происходящие в результате одноосного горизонтального сжатия, вызывают в верхних горизонтах осадочного чехла реактивное сжатие, которое реализуется в образовании системы эшелонированных вторичных нарушений складчато-разрывного типа, имеющих на дневной поверхности диагональную, продольную или поперечную по отношению к сдвигу ориентировку. Система вторичных разрывов вниз по разрезу постепенно сливается с плоскостью главного (осевого) сдвига. Свободная топографическая поверхность способствует выведению на ту поверхность тектонизированного материала по вторичным взбросам, возникающих в секторах сжатия осевых сдвигов. Взбросовый тип перемещения этого материала наиболее хорошо выражен, когда смещение по сдвигам осуществляется в обстановке дополнительного поперечного сжатия. В результате происходит выведение по восстанию разломов аллохтонных пластин, которые на поверхности группируются в чешуйчато-надвиговые морфоструктуры, расположенные субнормально, под углом 45о или близпараллельно главному разлому. Анализ деформаций осадочного чехла над сдвигами в фундаменте также приводился М.Чиннэри, В.С.Буртманом, В.Ярошевским, И.П.Кушнаревым. Модели развития чехольных дислокаций над сдвигами и в зонах динамического влияния сдвигов рассматривались С.И.Шерманом и др. (1983), Н.Д.Осокиной и Т.Ю.Цветковой (1987), Ю.Л.Ребецким (1987), Р.Б.Крапивнером (1986, 1990, 1992). По исследованиям Н.Д.Осокиной и Т.Ю.Цветковой (1979, 1987) наибольшие напряжения в осадочном чехле возникают или непосредственно над сдвигами или вблизи их. Чем масштабнее сдвиговые смещения по разломам фундамента, тем сильнее выражены дислокационно-разрывные явления в перекрывающем чехле, особенно в его поверхностной части. Выводы этих исследователей подтверждаются экспериментальными работами В.Л.Емеца, В.А.Корчемагина и др. (1987), которые установили, что в результате развития сдвиговых смещений в фундаменте в вышележащем осадочном чехле образуется серия деформаций и разрывов. В зависимости от нарастания сдвиговых смещений в фундаменте этот процесс подразделяется на три стадии. 1. Пластические деформации и складкообразование в вышележащих отложениях. 2. Пластические деформации с одновременным развитием разрывов. 3. Формирование шва разлома, прорастающего сквозь чехол. На первой стадии наблюдается относительно равномерное распределение деформаций, характерных для сдвиговых зон. На второй стадии происходит образование полос дробления и смятия, формируются системы разрывов косой и поперечной к сдвигу ориентации и серии эшелонированных складок. На третьей стадии дислокационный процесс перемещается в более обширную зону динамического влияния сдвига, где образуются оперяющие разрывы сжатия (взбросы) и растяжения (сбросы, раздвиги). В работе Ю.Л.Ребецкого (1987) эти выводы подтверждаются и детализируются. В частности, указывается, что в первой стадии дислокационно-сдвигового процесса в приповерхностной части осадочного чехла образуется система складок волочения (имеющих грядообразную форму), ориентированная под углом 35-50о к разлому. По мере развития горизонтальных смещений в фундаменте этот угол уменьшается до 10-15о. В начале второй стадии вблизи оси разлома-сдвига происходит образование дизъюнктивных нарушений, причем сначала простирание первой поперечной системы вторичных дислокаций составляет угол 80-85о по отношению к осевому разлому, а плоскости разрывов приобретают пропеллерообразную изогнутость. На более поздних стадиях они приобретают “S”-образную форму. Вторые системы дислокаций имеют диагональное простирание и образуются в заключительной фазе. Простирание разрывов и пластин идет под углом 15-30о по отношению к осевому сдвигу. В процессе сдвигания этот угол уменьшается. Работа Ю.Л.Ребецкого важна и в плане механизма формирования безкорневых дислокаций. Им установлено, что локальные максимумы тектонических напряжений сосредоточены вблизи поверхности чехла и у его подошвы - у границы фундамента. Поэтому сколовые и пликативные нарушения получают широкое развитие в поверхностных частях разреза, - затухают в средней его части и вновь проявляются близ кровли коренного основания. Такое распределение деформаций в разрезе чехла имеет место на первом и втором этапе развития дислокационного процесса. При масштабных горизонтальных смещениях в фундаменте зона вторичных разрывных нарушений и смещений в поверхностной части чехла смыкается с его приподошвенной частью, проявляясь и в средней части разреза чехла. Из работ, посвященных изучению структур, образующихся в осадочном чехле при сдвигах в фундаменте, представляет интерес также монография И.П.Кушнарева, П.И.Кушнарева и К.М.Мельниковой “Методы структурной геологии и геологического картирования” (1984). В ней показано, что деформация сдвига фундамента в перекрывающем чехле раскладывается на две составляющие, одна из которых создает структуры сжатия, а другая растяжения (рис.66). Структуры сжатия обычно приобретают форму кулисообразных складок и разрывов взбросового типа и образуют грядовый рельеф. По ширине этих образований можно косвенно судить о мощности осадочного чехла (или масштабности сдвиговых смещений в фундаменте). Схема развития дислокационного процесса в отложениях чехла и надсдвиговой зоне показана на рис.67. Такие параллельные грядовые комплексы Э.А.Левков (1980) и другие авторы относят к гляциотектоническим (рис.68). Несколько иное расположение вторичных структур и иная их морфологическая выраженность наблюдаются при двуосном горизонтальном сжатии. По В.Ярошевскому (1981) последствия такого сжатия могут проявиться двояко - как концентрированное и как рассеянное действие. Концентрированное действие происходит в непосредственной близости к разлому или в его кровле и связано с перемещениями вдоль сдвигов. Рассеянное действие может проявляться 1) на участках, заключенных между параллельными сдвигами; 2) в высокой кровле над глубинными сдвигами; 3) без сдвиговых смещений - в результате общего горизонтального сжатия. Складки и взбросо-надвиговые структуры в дислоцированной зоне рассматриваемого типа располагаются в виде кулисообразных валов или гряд, общая ширина поля которых ограничивается интервалом действия пары сил (рис.69). Вопросы развития зон бескорневых дислокаций - разрывных и пликативных подробно рассматриваются в монографии Р.Б.Крапивнера (1986), показавшего тождественность этих структур “гляциотектоническим”. На основе полевого изучения большого количества разрезов дислоцированных толщ на о.Колгуев, на Ямале и Камчатке он по существу пришел к аналогичным теоретическим выводам, что и названные исследователи. Из обобщений и выводов Р.Б.Крапивнера для решения проблемы краевых образований, гляциодислокаций и отторженцев наибольший интерес представляют следующие. Если сдвиговые перемещения по разломам фундамента происходили в результате одноосного сжатия, то в верхних горизонтах осадочного чехла реактивное сжатие ориентируется по отношению к оси сдвиговой зоны под гораздо большим углом, величина которого может достигать 90о . Такое несовпадение между осями напряжений и деформаций объясняется эффектом свободной дневной поверхности, в сторону которой происходит выжимание тектонически скученного, разорванного аллохтонного материала. Особенно типичен процесс выдавливания этого материала на дневную поверхность когда перемещение по главному разлому происходит в условиях дополнительного поперечного сжатия. В результате взбросового выведения материала на поверхность в рельефе формируются валообразные сооружения, в целом параллельные главному сдвигу (взбросо-сдвигу). Кроме того, на крыльях валов формируются чешуйчато-надвиговые структуры, фронт которых в целом параллелен общему простиранию надразломных валов, а надвигание пластов и чешуй происходит со стороны внутренних частей главного разрыва. Выведение аллохтонных пластов пород вверх по восстанию сместителя еще более характерно для разломов взбросового типа. Ссылаясь на результаты математического моделирования Ж.С.Ержанова, А.К.Егорова, А.И.Гарагаш и на свои полевые наблюдения, Крапивнер указы-вает, что “амплитуда дислокаций, связанных с продольным сжатием, достигает максимальной величины на поверхности. Между кромкой главного разлома, секущего породы фундамента, и горизонтом приповерхностных дислокаций осадочного чехла обособляется значительный по мощности интервал разреза, внутри которого эти дислокации (особенно разрывные) как бы затухают. На самом деле пластические деформации при-сутствуют и здесь, но из-за их рассредоточенности они редко остаются замеченными” (Крапив-нер, 1986, стр.18). Согласно анализу Р.Б.Кра-пивнера (1986) “геоморфологи-ческая выраженность сдвиговой зоны обусловлена объемным характером возникающих внутри нее деформаций при наличии свободной дневной поверхности, в направлении которой эти деформации распространяются наиболее легко. На поздних стадиях развития сдвиговая зона представляет собой линейный пояс смятия с большим числом разрывных нарушений различного типа и различной, но вполне закономерной пространственной ориентировкой”. Рассматривая строение сдвиговых зон в вертикальном разрезе Р.Б.Крапивнер (1986) указывает, что “идеализированный поперечный разрез сдвиговой зоны должен представлять собой перевернутую трапецию, основание которой расположено на верхнем уровне развития дислокаций, а параллельно ей меньшая сторона совпадает с подошвой деформируемой толщи” (стр.75). По Крапивнеру, у сдвигов со взбросовой компонентой перемещения близ дневной поверхности происходит выполаживание сместителей в сторону лежачего бока с образованием надвиго-сдвигов или сдвиго-надвигов. Причиной этому является то обстоятельство, что у дневной поверхности минимальной становится вертикальная ось главных нормальных напряжений. В работе 1990 г. Р.Б.Крапивнер развивает ряд положений и приходит к выводу: “Если выположенный сместитель разрыва пересекает топографическую поверхность, перемещение масс на глубине при наличии взбросовой компоненты неизбежно трансформируется в скольжение выжатой аллохтонной пластины непосредственно к поверхности. Вследствие этого образуется структуры, сходные с шарьяжами и выжатыми покровами” (1990, с.21). Такой механизм объясняет формирование скибовых структур краевых образований, а также отторженцев глубокозалегающего чехла. Вопрос о бескорневых дислокациях сторонники ледникового их генезиса нередко ставят во главу угла, считая, что только ледник мог деформировать верхнюю часть разреза чехла, тогда как нарушения тектонической природы должны обязательно прослеживаться до фундамента.Как видно из изложенного материала, такая постановка вопроса неправильна. В тектонически активных зонах, особенно в зонах сдвигов, формируются как бескорневые пликативные и разрывные структуры, так и структуры, пронизывающие надразломный осадочный чехол и смыкающиеся с разломно-сдвиговой зоной фундамента. Вообще в надсдвиговых структурах, особенно возникших на окончаниях сдвигов, поиски корней приповерхностных дислокаций следует вести не непосредственно под ними, а в направлении осевого сдвига. Выше уже указывалось, что амплитуда горизонтального смещения приповерхностных надвиго-взбросовых пластин может достигать сотен метров. Можно согласиться со следующим выводом Р.Б.Крапивнера (1992): “распространенное мнение о бескорневом характере складчато-чешуйчатых дислокаций не соответствует действительности и обусловлено тем, что они относятся к категории структур покровного типа. Разломные “корни” этих структур скрыты от наблюдения в тыловых частях покровов” (стр.40). Более полувека назад И.В.Мушкетов и Д.И.Мушкетов в ответ на недоумения геологов, безуспешно искавших и не находивших корней надвигов и покровов, указывали, что “их в сущности и не следует искать, потому что их не может и не должно быть... С точки зрения тектонической гипотезы скольжения, никаких корней быть не должно. Отдельные пакеты нагромождаются друг на друга в общем скольжении по наклонным плоскостям, отрываются от своего начального положения”. (1935, стр.288). Еще один аргумент сторонников ледникового генезиса бескорневых дислокаций заключается в утверждении, что дислокации осадочного чехла развиты только в границах четвертичных оледенений. Но и этот аргумент ошибочный. Большое количество приповерхностных бескорневых дислокаций в Среднем и Нижнем Поволжье (и в том и другом случае во внеледниковой зоне) изучено В.В.Бронгулеевым (1961). Складчатые и разрывные бескорневые дислокации известны в бассейне р.Мал.Цивиль (Чувашия), у Тетюшей на Волге, в бассейне р.Улемы (Татария), на р.Карла (Татария и Чувашия) в Самарской, Ульяновской областях, в бассейне среднего течения р.Урал и в ряде других районов. Известны бескорневые дислокации в Донбассе (Голубев, 1970), во внеледниковой зоне Западной Сибири (Генералов, 1983). Дислокации, описанные В.В.Бронгулеевым, развиты непосредственно с поверхности и проникают в чехол на глубину 20-40 м, реже до 70 м. Ширина дислоцированных зон достигает 1-1.5 км, протяженность до 7 км. Что касается механизма формирования таких складок и надвигов, то в то время он действительно казался не разрешимым - так как в этих районах не предусматривалось оледенения. В связи с этим В.В.Бронгулеев (1961) писал: “Необъяснимым является полное угасание дислокаций внутри осадочного чехла, а не на контакте с кристаллическим основанием”. Можно понять затруднения геологов того времени, когда на идеи горизонтальных движений в фундаменте (и вызываемых ими дислокаций в осадочном чехле) было наложено табу, а все объясняющий ледник далеко не достигал района дислокаций. Ныне же само наличие подобных дислокаций является указанием на горизонтальные движения в фундаменте. Так, В.И.Шевченко (1984) пишет, что на платформах “к наиболее общим признакам чешуйчато-надвиговых дислокаций можно отнести то, что они... охватывают только часть осадочного чехла, обычно не самую нижнюю и затухают с глубиной” (с.104). В целом надо отметить, что бескорневые приповерхностные дислокации за пределами “границ оледенений” развиты реже: наиболее интенсивная тектоническая активизация Русской платформы в позднем кайнозое происходила в северной ее половине и “границы оледенения” отражают глубинные рубежи этой активизации.
Выводы 1. Чешуйчато-надвиговые (скибовые) морфоструктуры в поверхностной части разреза платформенного чехла, рассматриваемые рядом авторов, как гляциодислокации, имеют тектоническое происхождение. Их формирование связано с сдвиговыми смещениями по разломам фундамента и, вызванными этим, деформациями осадочного чехла. Выведение пластин и чешуй из разреза осадочного чехла на поверхность и скучивание их в приразломные чешуйчато-надвиговые дислокации является результатом преобразования сдвиговых напряжений во взбросовые на участках поперечного сжатия сдвигов. 2. Отторженцами являются как выведенные на поверхность чешуи осадочного чехла, так и изолированные и раздробленные крупные глыбы и блоки пород, выведенные по разломам из нижних горизонтов платформенного чехла.
3.12. Древние погребенные долины (“ложбины ледникового выпахивания”) В пределах Восточно-Европейской платформы и в Западной Сибири широко развиты погребенные долины. Эти долины известны также как “переуглубленные долины”, поскольку днище их нередко лежит на десятки, и даже на сотни метров ниже уровня моря. Известны они под термином “ложбины ледникового выпахивания”. Большинство погребенных долин, или их отрезки, используются современными реками, но их эрозионный врез, по сравнению с глубиной погребенных долин, обычно незначителен. Проблема генезиса погребенных долин дискутируется уже несколько десятков лет, но не решена до сих пор. Наибольший вклад в ее решение - как в деле получения важного фактического материала (связанного, в основном, с буровыми работами), так и в плане предложенных моделей формирования долин внесли акад. Г.И.Горецкий, Д.Б.Малаховский, И.Л.Кузин, И.Д.Данилов, А.В.Матвеев, Э.А.Левков, а на шельфе арктических морей - А.Н.Ласточкин. Дискуссия развивается по трем направлениям. Наиболее многочисленная группа исследователей связывает формирование долин с ледниковым выпахиванием. Видными представителями этой концепции являются Г.И.Горецкий и Э.А.Левков. Другие ученые считают, что долины в основе имеют эрозионное происхождение, а ледник лишь моделировал склоны долин и заполнил их рыхлыми отложениями (Д.Б.Малаховский, В.А.Чепулите). Третья группа исследователей доказывает, что переуглубленные долины северной Евразии имеют эрозионный генезис и сформировались в конце неогена, когда уровень Полярного бассейна был на 200-300 м ниже современного (И.Л.Кузин, Г.У.Линдберг). Древние переуглубленные долины врезаны в отложения платформенного чехла на глубину 200-280 м (Горецкий, 1974; Малаховский, 1969, 1985; Левков, 1980). По данным И.Л.Кузина (1963) в Западной Сибири наиболее глубокие врезы достигают глубины 300 и даже 400 м. При этом днища долин лежат ниже уровня моря на 100-150, а иногда на 260-280 м (Кузин и др., 1963; Горецкий, 1974). Нижние части погребенных долин иногда врезаны в кристаллические породы фундамента (Горецкий, 1974). Размеры долин разнообразны. Ширина измеряется от нескольких сотен метров до 5-25 км, а иногда и больше, длина - от нескольких километров до нескольких десятков и сотен километров. Протяженные переуглубленные долины установлены на севере Западной Сибири и Европейском Севере, а также в Прибалтике и Белоруссии. Наиболее детально они изучены в Белоруссии, где получили название “ложбины ледникового выпахивания”. На значительных своих отрезках ложбины наследуются реками Неманом, Припятью, Зап.Двиной, Днепром, Березиной и некоторыми их притоками. Длина белорусских долин достигает 200-400 км (Матвеев и др., 1987). Рассматриваемые долины выполнены рыхлыми отложениями кайнозойского возраста (от древнего и современного аллювия до “ледниковых”, озерных, морских и других отложений). Важное значение для познания природы долин имеют особенности строения их бортов и ложа, возраст выполняющих их отложений. Такие материалы имеются в работах Г.И.Горецкого, который критикуя теорию речного, эрозионного генезиса долин, приходит к следующим обобщениям: “неречной генезис ложбин подтверждается крайней узостью некоторых ложбин - до 0.8 км, при огромной относительной их глубине - иногда до 180-250 м и большой крутизной склонов - до 30-35о, невыработанностью продольного профиля, чередованием глубоких западин и высоких перемычек... Глубокие погребенные ложбины не образуют сплошного цельного понижения, напоминающего речную долину, а расчленяются на ряд разобщенных ложбин различных очертаний” (Горецкий, 1974, стр.8). Согласно Г.И.Горецкому в резком противоречии с мнением о эрозионном происхождении погребенных долин находятся факты их сильного переуглубления. Так, в верхнем течении Западной Двины и Днепра отметки ложа долин лежат ниже уровня моря на 48-200 м, в среднем течении р.Неман до минус 88-160 м, а в низовьях Даугавы до минус 283.3 м (Горецкий, 1974, стр.9). Строение бортов долин и выполняющих их отложений тоже не согласуется с мнением об их эрозионно-аллювиальной природе. По данным Г.И.Горецкого, Э.А.Левкова, Н.И.Кригера в погребенных долинах широко развиты “гляциодислокации” и отторженцы, своим происхождением обязанные “расклинивающему воздействию ледниковых языков на склоны ранее существовавших речных долин”. По Э.А.Левкову (1980, стр.94) основным типом гляционарушений в долинах считаются складчато-чешуйчатые (скибовые) системы из сорванных ледником из бортов долин и затем дислоцированных пакетов пород. Сорванные пласты либо удалены на некоторое расстояние от бортов долин, либо надвинуты на относительно молодые коренные породы и антропогеновые отложения, либо интенсивно дислоцированы и сохраняют связь с материнскими породами. Вертикальная амплитуда перемещения блоков-отторженцев достигает 120-250 м. Итак, можно констатировать, что профиль погребенных долин неровный, для него характерно чередование замкнутых котловин и выступов; породы, слагающие борта и днище долин, дислоцированы, отторгнуты, рыхлые отложения смяты, скучены в чешуйчато-надвиговые сооружения, в строении которых широко участвует и “морена” и мезозой-палеозойские образования. Эти данные, конечно, не свидетельствуют в пользу чисто эрозионного происхождения погребенных долин и, казалось бы, окончательно подтверждают теорию их полного (или частичного) ледникового выпахивания. Не зря они фигурируют над термином “ложбины ледникового выпахивания”. Вместе с тем, по данным Э.А.Левкова (1980) “сопоставление сети ложбин с системой платформенных.... разрывных нарушений обычно обнаруживают плановое соответствие тех и других: ложбины как бы нанизаны на разломные зоны”. Эти важные данные подтверждены материалами опубликованными в книге “Тектоника Белоруссии” (1976): “В тесном парагенезисе с отторженцами находятся ложбины ледникового выпахивания. Для них свойственны глубины вреза до 100-200 м ширина в несколько километров и тяготение к разломам. При этом выявляются цепочки ложбин, вытянутые на 100 и более километров и как бы нанизанные на разломные зоны”. Совпадение “ложбин выпахивания” и разломов уже важное основание для постановки вопроса о тектонической предопределенности ложбин, а наличие на их бортах отторженцев указывает на движения взбросово-сдвигового типа по этим ложбинам, указывают на тектоническое отторжение блоков и пакетов пород и выведение их по плоскостям разломов на поверхность. Но это не столь убедительные аргументы для сторонников ледниковой доктрины. Но проблема неожиданно оказалась близка к иному разрешению в результате новых исследований в Белоруссии - стране классических “ледниковых ложбин выпахивания”. Результаты этих исследований опубликованы А.В.Матвеевым, Л.Ф.Ажгиревич, Л.П.Вольской и С.Л.Неделиным (“Геоморфология”, № 3, 1987). На основании дешифрирования космических снимков, с использованием результатов наземных (в том числе буровых) работ была составлена карта погребенных ложбин Белоруссии (рис.70). На ней отчетливо выделяется система субмеридиональных и субширотных погребенных ложбин, представляющих собой линеаментную (регматическую) сеть разрывов в фундаменте и чехле. Авторы статьи указывают: “в целом направление ложбин контролируется крупными (первого порядка) тектоническими структурами, выделенными по фундаменту, проявляющимися в осадочном чехле и, в той или иной мере, в рельефе”. Второй вывод авторов касается возраста отложений, выполняющих погребенные долины Беларуси. Долины (ложбины) оказались выполненными не только четвертичными, но и палеоген-неогеновыми отложениями. При этом, главным маркирующим горизонтом, позволяющим определить возраст долин, являются отложения буроугольной формации позднего олигоцена - среднего миоцена. По данным А.В.Матвеева и др. (1987), с образованиями буроугольной формации связаны все известные углепроявления Белоруссии (Кобринское, Антопольское, Пружанское, Руднянское, Соколовское и другие), которые как раз залегают в толще кайнозоя, выполняющего погребенные долины. В ряде погребенных ложбин угленосные слои составляют бóльшую часть их разреза (буроугольные месторождения Грисское, Бриневское). Авторы полагают, что в некоторых погребенных ложбинах угленакопление происходило на фоне олигоцен-миоценового выщелачивания соленосных отложений. И хотя авторы публикации не ставили задачей отрицание ледникового генезиса долин, приведенные ими материалы, показывают, что долины, как отрицательные формы рельефа уже существовали к концу палеогена. Они начали заполняться осадками и угленосными слоями в олигоцене и миоцене. Процесс заполнения долин отложеними продолжался в плиоцене и антропогене, о чем свидетельствуют аллювиальные свиты и другие отложения этого возраста. Установление олигоцен-миоценового возраста отложений буроугольной формации, составляющих неотъемлемую часть разреза кайнозойских отложений, выполняющих погребенные ложбины, ставит под сомнение весь фундамент теории ледникового выпахивания ложбин. Ведь не мог же ледник, выпахав ложбины и угленосные толщи их выполняющие, снова спроектировать их на свое место. А теории подземного ледникового выпахивания пока не предложено. Приуроченность погребенных долин к разломам регматической сети фундамента и чехла, нанизанность их на разломные зоны показывает, что они были заложены по разломам этой сети в стадию тектонического растяжения земной коры. На месте нынешних ложбин в мезозойском чехле и кристаллическом фундаменте существовали трещины, разрывы растяжения, раздвиги. Большая ширина и глубина многих ложбин связана с общим тектоническим воздыманием земной коры, с раскрытием (раздвиганием) разломов и зон интенсивной трещиноватости. Палеоген-неогеновый пенеплен был на 200-300 м и выше современного. Принимала ли участие линейная эрозия в выработке продольного профиля тектонических ущелий, грабенообразных понижений, замкнутые впадины в которых были заняты озерами, (подобно тому, как мы это видим на Балтийском щите, на геоблоках, находящихся в стадии растяжения). Эрозия могла проявляться в некотором углублении зон трещиноватости и зон выветривания в породах протерозоя и архея, в размыве рыхлых отложений мезозоя, в формировании крупных и мелких эрозионно-аккумулятивных речных долин. В олигоцен-миоценовое время имела место общая тектоническая стабилизация с тенденцией постепенного опускания земной коры. На фоне этого погружения происходило заполнение ложбин, ущелеобразных и грабенообразных долин озерными, болотными, аллювиальными осадками, накапливались отложения буроугольной формации. В четвертичном периоде в условиях тектонического сжатия по зонам разломов фундамента, приуроченным к погребенным ложбинам, произошли сдвиговые смещения. В разломных и надразломных зонах и в поле динамического влияния сдвигов развивались взбросо-надвиговые блоково-чешуйчатые смещения. Они привели к деструкции части отложений погребенных долин, к формированию чешуйчато-надвиговых структур, к дислокациям к выведению отторженцев мезозой-палеозойских пород вверх по разрезу на 150-250 м. Продольный профиль долин также подвергался тектонической перестройке, формировались новые впадины и выступы - последствия сдвиговых и взбросовых смещений приразломных блоков. Этот процесс на тектонических активных геоблоках Восточно-Европейской платформы продолжается и ныне. Резюмируя изложенный материал можно наметить следующие этапы в формировании и развитии погребенных долин. 1. Этап разломно-тектонического (раздвигового) формирования ложбин с участием эрозионного фактора (палеоген). 2. Этап заполнения долин отложениями, в том числе угленосными, на фоне погружения платформы (олигоцен-миоцен-плиоцен). 3. Этап антропогеновой тектонической активизации платформы в условиях горизонтального сжатия. Сдвиговые смещения по ложбинам-разломам, дислокации взбросового типа в приразломно-шовных зонах и в полях динамического влияния сдвигов. Формирование многочисленных дислокаций, отторженцев, тектонических “морен” в прибортовых частях и отложениях погребенных ложбин. В течение четвертичного периода происходил эрозионный врез в отложения погребенных долин, имело место типичное для речных долин накопление аллювия, формирование террасовых комплексов и т.п. В других регионах Восточно-Европейской платформы и Западной Сибири намеченные этапы формирования и развития погребенных (переуглубленных) долин могли быть несколько иными, но главные их черты, видимо, имели немало общего.
3.13. Конечно-моренные (краевые) гряды на Балтийском щите На Балтийском щите наиболее известны три крупных системы “конечно-моренных” (“краевых”) гряд: Ра - в Норвегии и Швеции, Сальпаусселька - в Финляндии (и, частично, Карелии) и Терские Кейвы - на Кольском п-ове. Эти гряды принято относить к конечно-моренной деятельности ледника на заключительной стадии последней ледниковой эпохи. Гряды Ра. “Конечно-моренные” гряды ледниковой стадии Ра развиты в южной части Норвегии и на юго-западе Швеции. Они как бы оконтуривают Норвежский трог с северо-востока и северо-запада. Общая протяженность гряд не менее 250 км. По материалам, опубликованным У.Хольтедалем (1958), высота гряд обычно составляет 20-40 м, ширина порядка 500-800 м. Большой интерес представляет их внутреннее строение. По тем же данным на одних участках гряда сложена безвалунными глинами и с поверхности перекрыта тонким маломощным слоем галечников (“оболочка” Ра). В других разрезах ядро гряды также сложено безвалунными и слабовалунными глинами, перекрытыми уже мощной - до 10 м и более толщей песков, галечников, гравийных песков. В разрезах отмечаются и ленточные глины, содержащие раковины морских моллюсков. Относительно глинистого ядра гряд все отложения занимают облекающее положение и, как и само ядро, повторяют внешние контуры гряды. На многих участках гряды, в глинах, слагающих ее тело, обнаружены хорошо сохранившиеся раковины морских моллюсков (портландии, макомы, циприны, иольдии, мидии) (Хольтедаль, 1958, стр.52-55). Какое же участие в создании этих “конечно-моренных” гряд принимал ледник? “Морена” в их строении не участвует, ядро гряд слагают морские глины, с поверхности их перекрывают пески, галечники, гравийники, которые И.Фогт и другие норвежские геологи, относят, как и глины, к морским отложениям. В связи с тем, что морские отложения, слагающие гряды, имеют облекающее залегание и в некоторых пунктах дополнительно дислоцированы, была высказана точка зрения об их напорно-ледниковом происхождении (С.Йоханссон). Однако вопрос о причинах отсутствия морены остался не объясненным, хотя общепринято, что именно в краевой части деградирующего ледника скапливается масса моренного материала. Гряды Ра своим плановым расположением по существу оконтуривают тектонически активный Норвежский трог с севера. Есть основания полагать, что гряды, в свою очередь, фиксируют систему разломов, ограничивающих трог с севера и, что они являются надразломными структурами сжатия. Сальпаусселька. Состоит из системы трех дугообразно расположенных гряд, пересекающих южную часть Финляндии с юго-запада на северо-восток. В рельефе хорошо выражены две гряды. Их высота от 20 до 80 м, ширина от десятков до сотен метров, иногда до 2-3 км. Большая часть разреза гряд сложена песками, гравийниками, галечниками, в ее строении участвуют и валунные пески (“морена”), которые переслаиваются с прослоями слоистых перемыты песков. В некоторых разрезах Сальпауссельки установлено, что галечники и пески имеют морской генезис (Нууррä, 1966). Отложения, слагающие гряды, нередко смяты в складки и в целом характеризуются чешуйчато-надвиговой структурой (Герасимов и Марков, 1939; М.Saarnisto, 1985). На основании такого строения гряд существует мнение об их формировании в результате ледникового сдавливания рыхлых отложений. Механизм такого сдавливания и смятия в гряды отложений, слагающих выровненную аккумулятивную равнину, как и в случае с грядой Ра, остается загадочным. Почему же, однако, гряды имеют дугообразную форму и протягиваются с юго-запада на северо-восток почти на 500 км? А.Таммекан (1955) писал, что гряды Сальпаусселька лежат в контуре протяженной зоны, в пределах которой проходит граница раздела аномалий силы тяжести. К северу от системы гряд гравиметровые аномалии положительные, к югу от них - отрицательные. По мнению А.Таммекана это связано с тенденцией к поднятию южной части Финляндии. По данным В.Е.Гендлера (1980) в пределах южной Финляндии к крупной разломной зоне “оказываются приуроченными крупные полосы развития флювиогляциальных отложений - гряда Сальпаусселька. Такая приуроченность вряд ли является случайной. Вероятно следует предположить возможность подвижек по разломам во время образования этих отложений” (стр.83-84). Этот вывод В.Е.Гендлера подтверждается и данными космической съемки: на космоснимках отчетливо видна структурно-тектоническая предопределенность гряд Сальпаусселька, приуроченность их к дугообразным разломам фундамента. Учитывая надвигово-чешуйчатую внутреннюю структуру гряд, их приуроченность к дугообразным разломам в фундаменте, данный комплекс следует рассматривать как надразломные валы сжатия, фиксирующие систему дугообразных разломов надвигового типа. Гряды Терские Кейвы. Система “конечно-моренных” гряд Терские Кейвы прослеживается вдоль южного и юго-восточного побережья Кольского п-ова. Выделяются три субпараллельные гряды. Протяженность наиболее крупной из них - северной, более 250 км. Высота гряд колеблется от 15-20 до 60 м, ширина от 100-150 до 400-700 м. На разных своих отрезках эти образования сложены перемытыми гравийными песками, галечниками, “мореной”, ленточными глинами, супесями. При работах 1972 и 1977 гг. в разрезах гряд, прорезаемых р.Стрельной, нами установлено, что отложения имеют антиклинальное залегание (северная Кейва) и им присуща сильная дислоцированность (вторая Кейва). В ленточных глинах северной гряды выявлен комплекс морской и солоноватоводной диатомовой флоры, а в валунных суглинках и гравийных песках второй гряды - комплексы фораминифер и раковин морских моллюсков. Раковины имеют различную сохранность - от целых створок астарт, циприн, а также балянусов в “морене”, до раковинного детрита в гравийных отложениях. В разрезе самой южной гряды (Морская Кейва) в районе устья р.Поной в 30-метровой толще песков и в перекрывающих их ледниково-морских валунных суглинках, был выявлен комплекс фораминифер и радиолярий (Чувардинский, 1973). Для понимания механизма формирования гряд большое значение имеет их приуроченность к дугообразным разломам, вдоль которых простираются эти гряды. Особенно хорошо картируется региональный Турий-Нижнепонойский разлом (сдвиг-надвиг), вдоль которого вначале развита система озов, а затем (к востоку от р.Варзуга) гряда северная Кейва. Приуроченность гряды к Турий-Нижнепонойскому разлому отмечается многими геологами. Как пример воздействия четвертичной разрывной тектоники на формирование рельефа, на подпруживание грядами озер, лежащих к северу от них, данный разлом вошел в учебное пособие “Методы структурной геологии и геологического картирования” (Кушнарев и др., 1984). Буровые работы, проведенные на Пялица-Пулонгском отрезке северной Кейвы, показали, что под ней расположена зона интенсивного тектонического дробления коренных пород. Имеющиеся материалы позволяют рассматривать систему гряд Терские Кейвы как надразломные и приразломные валы продольного сжатия. Гряды сформировались в результате процессов горизонтального тектонического сжатия шовных зон разломов и надвигания южных крыльев разломов на северные. Морские и континентальные отложения, перекрывающие разломно-шовные зоны, были скучены в гряды с образованием в них вторичных чешуйчато-надвиговых и разрывных структур. Образования шовных зон разломов - брекчия трения, были выдавлены и составили ядро гряд. По этой причине отложения ядерных (центральных) частей гряд в ряде разрезов характеризуются существенными содержаниями золота. Можно констатировать, что “конечно-моренные” (“краевые”) гряды Балтийского щита, как и “краевые ледниковые” образования на Русской равнине имеют разломно-тектоническое происхождение.
3.14. Происхождение некоторых известных “гляциодислокаций”, отторженцев и “краевых” образований На Русской равнине наиболее известными являются Каневские, Мошногорские, Сещинские и Дудергофские дислокации, а также грандиозный Вышневолоцко-Новоторжский пояс отторженцев. В Западной Сибири широко дискутируется генезис Самаровских и Юганских оттторженцев, Малососвинских и Хадуттэ-Арка-Табъяхинских дислокаций (относимых также к краевым образованиям). Наряду с традиционной точкой зрения о ледниковой природе перечисленных образований, многие геологи приводили фактические доказательства их тектонического генезиса. В первую очередь это относится к Каневским и Мошногорским дислокациям, тектонический (взбросо-сдвиговый) механизм образования которых доказывали В.В.Резниченко (1926), Л.Ф.Лунгерсгаузен (1941), М.Г.Костяной (1962, 1963), Ю.А.Куделя (1966), В.А.Голубев (1970, 1972). Но ледниковые происхождение Каневского феномена активно отстаивается, так как эти дислокации являются эталонными и отказ от их ледникового генезиса может повлечь за собой пересмотр природы и других подобных “гляциодислокаций”. В последние годы изучение Каневских дислокаций проводили Ю.А.Лаврушин и Ю.Г.Чугунный (1982), предложившие иной ледниковый механизм формирования дислокаций, а также А.А.Махорин (1982), пришедший к выводу о тектонической природе этого феномена. Несколько позднее на Каневе провели работы Р.Б.Крапивнер и А.И.Юдкевич (1989), приведшие новые доказательства тектонического генезиса дислокаций. Весьма важное методическое значение для решения проблемы генезиса Каневских (и других) дислокаций имеют инженерно-геологические исследования М.Г.Костяного (1962, 1963). В основе его работ лежат многочисленные определения физико-механических свойств мезозой-кайнозойских отложений, слагающих Каневские дислокации. С учетом полученных данных и анализа имеющихся геологических и гидрогеологических материалов, были выполнены расчеты с целью определения степени устойчивости отложений к воздействию тангенциальных усилий ледника. Расчеты показали, что для создания Каневских дислокаций (их наибольшая ширина 9 км, общая длина - 35 км, мощность дислоцированной толщи - 200 м) необходимые тангенциальные усилия должны быть равными 4413 т/м2, что соответствует толщине ледника 4.9 км (Костяной, 1962, 1963). М.Г.Костяной пришел к выводу, что гипотеза гляциодислокаций с позиции механики грунтов не находит обоснования. Важно подчеркнуть, что для дислоцирования толщи песчано-глинистых пород мощностью 200 м понадобился ледник толщиной 4.9 км в краевой зоне. Какая же толщина ледника требуется для дислоцирования отложений, имеющих большой угол внутреннего трения - песчано-галечно-гравийных и валунно-песчаных, не говоря уже о жестких породах? Видимо прав был Э.Л.Левков (1980), когда указывал, что для дислоцирования валуносодержащих и галечниковых песков требуется мощность ледника во “многие километры и даже десятки километров для краевой зоны”. Большой объем геологических работ по изучению Каневских и Мошногорских дислокаций был выполнен под руководством В.А.Голубева. Он пришел к выводу, что эти дислокации являются результатом тектонических смещений по Каневскому надвигу, северная часть которого сопряжена с разломом сдвигового типа. Чешуйчато-надвиговая структура дислокаций является лобовой частью этого надвига (Голубев, 1970, 1972, рис.71). Изучавшие строение Каневских дислокаций, Ю.А.Лаврушин и Ю.Г.Чугунный, собрали много дополнительных геологических данных по строению дислокаций (главным образом по обнажениям в оврагах). Среди них большой интерес представляют данные по формированию тектонической “морены” (тектонических брекчий), именуемых авторами или гляциотектонической смесью или просто моренным суглинком. Авторами сделано три принципиальных вывода относительно механизма формирования дислокаций: 1. Концепция тектонического, а также гляциотектонического происхождения дислокаций неубедительна. 2. Авторы отмечают, что они полностью согласны с теми критиками ледниковой гипотезы, которые критикуют возникновение Каневских дислокаций путем бульдозерного эффекта ледника. “С нашей точки зрения, пишут они, приведенные в настоящей работе геологические материалы, убедительно свидетельствуют о несостоятельности подобных представлений” (Лаврушин, Чугунный, 1982, стр.84). 3. Авторы предлагают новую модель образования Каневских дислокаций в результате выдавливания субстрата из-под края ледника. При этом формировался инъективный вал, упиравшийся на западе в стену мертвого льда. Они пишут: “Изложенная модель формирования Каневского блока дислокаций прежде всего постулирует активное поступательное перемещение пород под воздействием ледниковых нагрузок. В этом принципиальное ее отличие от предлагавшихся ранее концепций” (1982, стр.92). Механизм довольно беспомощный, так как совершенно не объясняет геологическую структуру дислокаций, их взбросово-надвиговое строение. Ледниково-бульдозерная гипотеза, при всей ее нереальности, хотя бы соблюдала принцип подобия. Большой вклад в вопросы происхождения Каневских дислокаций внес А.А.Махорин (1982). На основании буровых, геофизических и инженерно-геологических работ он пришел к заключению о тектоническом происхождении дислокаций и в принципиальном плане подтвердил выводы В.А.Голубева. По данным А.А.Махорина в кристаллическом фундаменте района дислокаций выявлены разломы северо-западного и юго-западного простирания, ограничивающие блоки с амплитудами поднятий 20-80 м. Дислокации в осадочном чехле имеют надвиговый и сдвиговый характер. По Махорину “Каневские дислокации имеют несомненно тектоническое происхождение, связанное с деформациями кристаллического фундамента и осадочного чехла. Основной тип дислокаций надвиговый и сдвиговый, начало формирования дислокаций - доверхнемиоценовый, фаза интенсивных тектонических движений - четвертичный период” (Махорин, 1982). Р.Б.Крапивнер и А.И.Юдкевич (1989) на основе детального анализа данных буровых и электроразведочных работ, выполненных Укргидропроектом, и собственных исследований также пришли к выводу о тектонической природе Каневских и Мошногорских дислокаций. По их материалам Каневские дислокации представлены серией аллохтонных пластин северо-западного простирания, в которых участвуют мезозойские и кайнозойские отложения, в том числе аллювиальные. Амплитуда горизонтального перекрытия четвертичного аллювия составляет 400-450 м, а вертикального смещения чешуй - до 200-250 м. Имеющиеся данные показывают, что дислокации являются частью протяженной зоны динамического влияния Днепровского разлома. В неотектоническую эпоху он функционировал как левый сдвиг со взбросовой компонентой смещения крыльев на Каневском и Мошногорском участках, где его общее простирание отклоняется в сторону соответствующего сектора сжатия. В результате приповерхностная часть разреза чехла (до глубины 200-250 м) была надвинута на правый берег Днепра, образовав Каневские и Мошногорские гряды, состоящие из серии надвиговых чешуй-скиб. Ледниковый генезис дислокаций часто аргументируется северными азимутами падения надвиговых чешуй (“строго против движения ледника”). Такая ориентировка чешуй не редкость и объясняется она направлением вектора тектонических горизонтальных напряжений. Имеется немало дислокаций и с обратным - не совпадающим с движением ледника падением надвиговых чешуй, что вполне объяснимо с тектонических позиций образования дислокаций, но малопонятно с ледниковых. Например, Ю.А.Куделя (1966) указывает, что залегание чешуй в Каневских дислокациях свидетельствует об их перемещении с востока на запад и с юга на север. Несоответствие падения надвиговых чешуй ледниковым канонам подтверждено В.А.Голубевым (1970). В соседних Мошногорских дислокациях падение надвиговых чешуй ориентировано на юг (Голубев, 1970; Куделя, 1966; Лаврушин, Чугунный, 1982) и для объяснения такого их залегания требуется двигать ледник с юга - из Кривбасса, а для объяснения Каневских дислокаций - с юго-востока, из Донбасса. Ситуация с Каневскими дислокациями, как в зеркале, отражает создавшееся положение с ледниковой теорией, как таковой, и альтернативной ей концепцией. Данные бурения, инженерно-геологические, геофизические, геоморфологические, тектонические материалы казалось бы убедительно доказывают тектонический генезис Каневских дислокаций. Ан нет, воззрения типа: “Ледник, упершись правым боком в эту стену (правый берег Днепра), сдвинул ее с места” (Д.И.Соболев, 1926) и идеи о выдавливании пород из-под края ледника и их оформлении в инъективные валы (Лаврушин, Чугунный, 1982), по-прежнему господствуют. Более того, эти малогеологические модели выдаются за “железную” истину и за подписью Чугунного увековечиваются в “Географической энциклопедии Украины” (т.2, 1990). С другой стороны, на большом фактическом материале, в том числе собранном сторонниками оледенений, доказывается неледниковое происхождение “ледникового” рельефа и “ледниковых” отложений, показывается палеогеографическая неприемлемость ледниковой теории, ее несоответствие биогеографическим материалам, данным радиоуглеродных анализов. И тем не менее, ледниковая теория не просто господствует в науках о Земле, но постоянно пополняет свои анналы гипотезами о причинах ледниковых периодов. По подсчетам А.В.Лапшина (1988) количество гипотез о причинах ледниковых периодов превышает 200 и “их число продолжает расти” констатирует Лапшин, публикуя еще одну. Анализ строения Сещинских дислокаций, развитых на водоразделе рек Десна и Ипуть на участке периклинального замыкания Воронежской антеклизы, позволил Р.Б.Крапивнеру (1990) прийти к выводу об их тектоническом генезисе. Дислокации характеризуются аномально высоким залеганием многократно повторяющихся пластин интенсивно нарушенных мезозойских и кайнозойских отложений. На основании данных бурения сделан вывод, что Сещинские дислокации возникли в результате выполаживания в толще келловейских глин сместителей двух разломов-сдвигов - субмеридионального Асельского и субширотного Кочевского. На участке пересечения разломов они отклоняются в сторону сектора сжатия, что в итоге привело к развитию взбросовых чешуй, сформировавших гряды. Вертикальная амплитуда смещения до 100 м. В геологической литературе широко известен Вышневолоцко-Новоторжский вал - серия крупнейших в Европе отторженцев. В публикациях этот вал обычно фигурирует как пример грандиозной дислоцирующей и транспортирующей деятельности ледника. И действительно, явление феноменальное. Длина почти меридиональной полосы отторженцев составляет 120 км (от озера Мстино до г.Старицы), ширина 10-15 км, относительная высота 70-87 м (А.И.Москвитин, 1938; Д.Б.Малаховский и Э.Ю.Саммет, 1982). По данным В.Г.Хименкова и А.И.Москвитина отторженцы вала представлены породами разного возраста и разного литологического состава: пески, известняки и углистые глины нижнего карбона, верхнедевонские отложения, силурийские (ордовикские) и нижнекембрийские породы. В строении вала участвуют также известняки среднего карбона (среди поля которых расположен вал) и четвертичные отложения. Согласно выводам ряда исследователей отторженцы перенесены ледником из двух основных мест. Известняки, пески и углистые глины нижнего карбона транспортированы из района Валдайской возвышенности за 150 км (А.И.Москвитин, Д.Б.Малаховский, Э.Ю.Саммет, Ю.А.Лаврушин). Отложения силура (ордовика) и нижнего кембрия приволочены ледником из района Финского глинта за 330 км (Д.Б.Малаховский и Э.Ю.Саммет, 1982). Откуда принесены отторгнутые отложения верхнего девона никем не указывается. Ненарушенный разрез платформенного чехла данного района вскрыт скважиной в Кувшиново - в 30 км к западу от вала (Геология СССР, т.IV, 1971). Можно констатировать, что в строении данного пояса отторженцев участвуют все породы разреза осадочного чехла: нижнекембрийские глины, ордовикские и верхнедевонские отложения, нижнекаменноугольные породы - известняки, пески, углистые глины, среднекарбновые известняки и мергели, четвертичные отложения. Таким образом, ледник в полном объеме воссоздал разрез платформенного чехла Тверской области, хотя для этого пришлось отторгать исполинские блоки и пакеты пород и отложений и перемещать их из ряда труднодоступных и разобщенных районов за несколько сотен километров. Логичнее вернуться к представлениям крупнейших геологов нашего века А.П.Карпинского и А.Д.Архангельского о тектоническом происхождении Вышневолоцко-Новоторжского вала и его отторженцев. Новейшие исследования подтверждают правоту наших предшественников. По данным Р.Б.Крапивнера (1990, 1992) пояс отторженцев приурочен к неотектонически активному Торжокскому разлому взбросо-сдвигового типа, который на севере сочленяется с Крестцовским авлакогеном. Отторженцевое положение нижнекарбоновых, верхнедевонских, ордовикских и нижнекембрийских пород связано с выведением их на поверхность по вторичным взбросам и взбросо-сдвигам из верхних, средних и нижних горизонтов осадочного чехла - с глубины от 100-150 м (известняки, глины и пески нижнего карбона) до глубины 1000-1200 м (нижнекембрийские глины). Механизм выведения аллохтонных пакетов пород из разреза чехла по взбросам и взбросо-сдвигам рассмотрен в предыдущем разделе. Таким образом, формулировка известного геолога В.Д.Соколова, высказанная им еще в 30-е годы, что Вышневолоцко-Новоторжский вал - “это геотектоническая ось Калининской области, так сказать, ее вывернутые на поверхность недра”, вполне справедлива.
Большое количество
отторженцев кембрийских и ордовикских пород (отдельные блоки их
достигают 8 млн. м3) и тектонических брекчий (именуемых
ледниковыми брекчиями) из девонских, ордовикских и кембрийских пород
закартировано в южном Приильменье по рекам Ловать, Полисть, Порусья
Ф.А.Алексеевым и С.М.Чихачевым. Д.Б.Малаховский и Э.Ю.Саммет (1982)
считают, что отторженцы принес ледник из района вблизи южного берега
Финского залива. Рассматриваемая полоса отторженцев выделялась
А.П.Карпинским как крупная разломно-тектоническая структура -
Полистовско-Ловатский вал протяженностью Можно подчеркнуть, что набор отторженцевых пород этой субмеридиональной разломной зоны также соответствует разрезу осадочного чехла этого района. Наибольшая глубина ненарушенного залегания ордовикского и кембрийского горизонтов несколько более 600 м (Малаховский, Саммет, 1982). Очевидно и здесь нет необходимости в гипотетическом ледниковом перемещении громадных отторженцев за сотни километров. Расстояние их перемещения - несколько сотен метров. Они выведены из дислоцированного разреза чехла по взбросо-сдвигам, составляющим структуру Полистовско-Ловатского вала. Дудергофско-Кирхгофские дислокации расположены на бровке Балтийско-Ладожского глинта в месте его пересечения гатчинской зоной тектонических нарушений (Е.Л.Грейсер и др., 1980). Положение дислокаций в зоне пересечения активных разломов, само по себе ставит вопрос об их тектоническом происхождении. Однако, сторонники оледенений считают, что дислокации имеют ледниковое происхождение и возникли у края ледника. Какой-либо аргументации в пользу этого не приводится, кроме ссылок на большую выпахивающую деятельность ледника. Более аргументированной представляется работа А.В.Волина (1974), который на основании богатого фактического материала (главным образом, собранного посредством изучения выходов пород в карьерах, вскрывающих тело дислокаций) пришел к выводу о тектоно-диапировой природе Дудергофско-Кирхговских дислокаций и отторженцев. Развитие процессов глиняного диапиризма в этих структурах вызвано активизацией тектонических движений в узле пересечения двух крупных разломных зон. Ранее разломно-тектоническое происхождение ряда дислокаций и отторженцев сосредоточенных близ Балтийско-Ладожского глинта доказывал Э.Ю.Саммет (1961). Происхождение известных Самаровских и Юганских дислокаций и отторженцев в Западной Сибири по данным Р.Б.Крапивнера (1986) и И.Л.Зайонца (1972) связано с выведением на поверхность процессами глиняного диапиризма блоков и чешуй внутричехольных нижнеэоценовых опок (Самаровский отторженец) и юрских алевролитов и глин (Юганский отторженец). Амплитуды вертикальных перемещений аллохтонных блоков опок достигают нескольких сотен метров, а юрских глинистых пород до 2.6-2.8 км (Н.И.Николаев, 1988). Вообще, как показывают исследования И.Л.Кузина, Р.Б.Крапивнера, П.П.Генералова, Л.А.Меняйло, В.Н.Седова, И.Л.Зайонца процессы глиняного диапиризма имеют в Западной Сибири самое широкое развитие. В разных районах Западно-Сибирской равнины установлены крупноамплитудные внутричехольные дислокации и выведенные на поверхность процессами глиняного диапиризма блоки-отторженцы юрских, меловых и палеогеновых пород. Например, работами Н.И.Смирнова (1985) доказывается выведение на р.Лямин с глубины 850-900 м процессами глиняного диапиризма крупных отторженцев верхнемеловых пород. И.Л.Кузин и С.В.Трофимов (1982) приводят доказательства выведения на поверхность, в процессе формирования крупной диапировой структуры, крупного отторженца верхнемеловых пород с глубины 900-1000 м (район Сибирских Увалов). Большой интерес представляют известные в литературе Хадутте-Арка-Табъяхинские грядовые комплексы (Тазовский п-ов). Эти гряды многие ученые (В.И.Астахов, М.Г.Гросвальд, Д.Б.Орешкин, С.А.Архипов) считают типичными краевыми ледниковыми образованиями и широко используют для обоснования Карского ледникового покрова, двигавшегося, по их представлениям, из впадины Карского моря на Западно-Сибирскую равнину. Данные гряды автор изучал в 1959-1960 гг. Грядовые комплексы образуют в южной части Тазовского п-ова линейные, дугообразные, замкнутые эллипсоидальные грядовые системы (рис.72). Высота гряд 5-15 м, реже до 20 м, ширина 70-150 м, иногда до 200-250 м. Понижения между грядами имеют ширину 50-300-500 м. Гряды в своей основе сложены диатомовыми глинами ирбитской свиты эоцена, частью перекрыты песками, супесями, наблюдаются гряды, целиком сложенные четвертичными морскими песками и супесями. Все породы находятся в вечномерзлом состоянии. В разрезах гряд наблюдаются антиклинальные изгибы слоев песка и торфа, сами диатомовые глины, будучи однородной, монотонной толщей, лишенной маркирующих горизонтов, не образуют визуально заметных складок. По данным буровых и геофизических работ, проведенных Л.А.Миняйло (1985, 1987) установлено, что эоценовые глины образуют обширные залежи в контуре грядовых комплексов, независимо от того, сложены они диатомовыми глинами или четвертичными песками и супесями. В целом залежи глин образуют несколько крупных структур нагнетания с амплитудой от 50-100 до 250-350 м (рис.73). Грядовые комплексы достаточно точно отражают границы этих структур. Учитывая, что в контуре развития грядовых комплексов установлены тектонические нарушения трещинного типа, с глубиной проникновения более 1000 м, можно предполагать существование в фундаменте взбросо-сдвиговых смещений. Не исключено, что эти смещения стимулировали не только процессы глиняного диапиризма. Верхние мерзлые толщи пород могли реагировать на такие движения по типу жестких пород, что привело к формированию кулисообразных гряд, которые можно рассматривать как складки продольного изгиба, осложненные разрывами взбросового типа. По данным Л.А.Миняйло (1987) движения по разломам фундамента привели к вертикальным перемещениям по вторичным разрывам пластин и чешуй эоценовых опок и диатомитов с амплитудой до 400 м. Выведенные на поверхность, они нередко принимаются за ледниковые отторженцы. Малососвинские дислокации. Система дислокаций, сопряженных с параллельно-грядовым рельефом, образует в бассейне р.Мал.Сосьва (нижнее Приобье) крупную морфоструктуру известную как “Малососвинский амфитеатр”. Протяженность линейных и дугообразных систем грядового рельефа, главного элемента морфоструктуры, 180 км, ширина от 10 до 30 км, высота гряд 20-50 м. Гряды сложены палеогеновыми породами, частью перекрыты песками и песчано-галечными отложениями четвертичного возраста (П.П.Генералов, 1987; И.Л.Зайонц и др., 1987). Сторонники оледедений - В.И.Астахов, М.Г.Гросвальд, С.А.Архипов и другие ученые указанные гряды относят к краевым образованиям, а всю морфоструктуру считают творением ледника, пришедшего к восточному склону Урала с шельфа Карского моря и дислоцировавшего местные отложения на глубину более 300 м (В.И.Астахов, 1990). Механизм ледникового формирования дислокаций Малососвинского амфитеатра не раскрывается, но указывается, что дугообразное положение структуры вогнутой стороной обращенной на северо-восток, можно объяснить только с помощью Карскоморского центра оледенения (В.И.Астахов, 1978). Весьма основательные геологические, геофизические и буровые работы были выполнены на площади Малососвинского амфитеатра П.П.Генераловым (1987), который пришел к выводу о разломно-складчатом происхождении всей структуры. По данным П.П.Генералова эта структура контролируется глубинными разломами фундамента с надвиговой - в западном направлении компонентой смещения. В пределах “амфитеатра” установлено пластическое перераспределение глин тавдинской и ирбитской свит палеогена, которое происходило сопряженно с развитием взбросов и чешуйчатых надвигов и брекчированием эоценовых диатомитов и опок. При этом, по опокам нижнего эоцена вертикальная компонента смещения в полосе развития параллельно-грядового рельефа достигает 300 м и возможно более. П.П.Генераловым установлено чешуйчато-надвиговое строение параллельно-грядового рельефа, формирование которого происходило в условиях латерального тектонического сжатия и выжимания пластин и чешуй палеогеновых пород вверх по вторичным крутым надвигам (рис.74). В формировании рассматриваемой морфоструктуры существенную роль играли процессы глиняного диапиризма. По исследованиям П.П.Генералова (1987) чешуйчато-надвиговое и надвиго-диапировое строение и, соответственно тектоническое происхождение, имеет параллельно-грядовый рельеф на профиле Салехард-Полуй (на правобережье Нижней Оби), на р.Сыня, Верхне-Хадытинском поднятии. Ученые Института географии РАН и Сибирского отделения РАН указанный грядовый рельеф и в этих районах относят к краевым образованиям и гляциодислокациям. Большой объем буровых работ, выполненный под руководством И.Л.Зайонца в Сосвинско-Белогорском Приобье, позволил изучить внутренне строение развитого здесь параллельно-грядового рельефа, относимого рядом ученых к гляциотектоническому рельефу и краевым образованиям. Исследования охватили и Малососвинский амфитеатр. Полученные материалы обобщены в статье И.Л.Зайонца, С.Я.Выдрина, Н.И.Смирнова и др. (1987). Геологи установили: 1. Параллельно-грядовый рельеф, собранный в дугообразные структуры, сложен опоками, диатомитами, диатомовыми и опоковидными глинами эоцена, реже глинами палеоцена. Гряды сложены дислоцированными чешуями и пластами перечисленных пород. Дислоцированная толща по скважинам прослеживается на глубину 200-300 м и уходит глубже. 2. Чешуйчатые надвиги эоценовых и палеоценовых пород, образующие параллельные дугообразные структуры сформировались в результате перемещений пластин и чешуй чехла по вторичным крутым надвигам. Чешуи палеогеновых пород выведены на поверхность по этим надвигам с глубины 200-300 м. Они являются аллохтонными и могут рассматриваться как тектонические отторженцы. Таким образом, исследования в различных районах Западной Сибири доказывают решающую роль разрывной тектоники и процессов глиняного диапиризма в формировании дислокаций в чехле платформы и выведении по взбросам отторженцев с глубины несколько сотен метров к дневной поверхности. “Краевые” образования являются разломно-пликативными тектоническими морфоструктурами.
|
|
Ссылка на книгу: Чувардинский В.Г. О ледниковой теории. Происхождение образований ледниковой формации. - Апатиты, 1998. (“Мурмангеолком”, ОАО “Центрально-Кольская экспедиция”). 302 c.
|
![]()