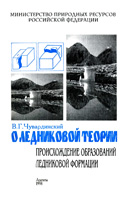| ||
|
| ||
|
Глава 4 ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛУННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ПРОЦЕССЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАЛУННО-ГЛЫБОВОГО МАТЕРИАЛА
Валунные отложения на Русской платформе имеют весьма широкое развитие. Их принято подразделять на два основных типа: основная (донная) морена и водно-абляционные морены (Рухина, 1973). Однако, уже достаточно давно возникли сомнения в правильности отнесения “морен” Кольского п-ова и ряда районов Русской равнины к ледниковой формации. Ниже рассматриваются черты строения “морен” и вопросы их формирования.
4.1. Основная (донная) морена Балтийского щита и состав валунно-глыбового материала Наиболее распространена на Балтийском щите основная или донная “морена”. Она представляет несортированную смесь валунов, глыб, щебня и мелкозема песчано-глинистой размерности. По данным гранулометрических анализов содержание в “морене” валунов, глыб, гальки и щебня изменяется от 29 до 56%, песчано-гравийной фракции - от 35 до 60%, алеврита и глины от 5 до 21% (Каган, Солодухин, 1971; Евзеров, 1983). В среднем морена Кольского п-ова на 30-40% состоит из валунов и глыб, количество мелкозема (песка, глинистых частиц) - около 30%, материала щебнисто-галечной размерности - около 25%. “Донная морена”, как правило, залегает непосредственно на коренных породах, реже на корах выветривания или на других типах отложений. Ее мощность от 0.5 до 15-20 м, реже до 30 м, средняя мощность - 3-5 м. Валуны и глыбы в составе “морены” имеют размеры от долей метра до 1-2 м в поперечнике. Не являются исключением глыбы размером 10-15 м по длине и 5-7 м по высоте. Иногда фиксируются и еще более крупные блоки пород. Размер таких глыб и блоков нередко намного превышает мощность “морены” и поэтому их иногда ошибочно принимают за обнажения. Для познания генезиса морены и для целей валунных поисков важным является изучение состава валунов “донной морены”. Еще более 100 лет назад А.А.Иностранцев, при работах в Карелии, установил, что валуны в ”морене “ состоят из тех же пород, что и лежащие ниже коренные породы. Это важное наблюдение было принято недоверчиво, однако, многочисленные современные исследования по восточной части Балтийского щита, в Финляндии, Швеции и Норвегии подтвердили наблюдения А.А.Иностранцева. Была установлена тесная зависимость состава валунно-глыбового материала “морены”, ее мелкозема и, даже цвета, от состава подстилающих и местных пород (работы Г.С.Бискэ, А.В.Сидоренко, В.Я.Евзерова, Р.Куянсу, У.Хольтедаля). Так, работы Г.С.Бискэ (1959) по изучению состава донной морены в Карелии дали следующие результаты. В районе Ветреного пояса, где широко развиты интрузии базит-гипербазитов, в составе морены резко преобладают валуны основных и ультраосновных пород, а морена имеет темно-серый цвет. В районе Елмозеро на протерозойских кварцитах валуны в морене состоят из кварцитов, тогда как “морена”, развитая на ставролитовых и амфиболовых сланцах близ юго-восточной границы Финляндии безвалунная, тонкозернистая с включением щебня указанных пород. На слюдистых сланцах ладожской формации в том же районе развита суглинистая морена с включением щебня сланцев, а морена на гранитах рапакиви - грубопесчаная с большим количеством валунов и щебня гранитов-рапакиви. Морена на шокшинских кварцито-песчаниках, имеющих красновато-малиновый цвет, становится красно-бурой, валуны и щебень в ней состоят из песчаников и кварцитов. В то же время на черных шунгитах Заонежья морена становится почти черной, в ней резко преобладают обломки шунгитов. На основании своих исследований и данных других геологов, Г.С.Бискэ (1959) приходит к следующим выводам: “состав валунов в морене почти точно отражает характер подстилающих пород, т.е. иными словами, в любой точке местности преобладают валуны местных пород и лишь незначительный процент чуждых... Как гранулометрический, так и минералогический состав морены почти точно отражает состав подстилающих пород”. Подобная зависимость состава валунов в “донной морене” от местных коренных пород отмечена У.Хольтедалем (1958) в Норвегии. Так, в районе Осло морена, лежащая на изверженных породах, во многих слукчах более чем на 90% состоит из этих же пород. Валуны в морене в районе Нурдмарка (западнее Хикутстуа) на 95-98% состоят из местных осадочных пород. В районе же, где подстилающими породами являются сланцы, донные морены нередко состоят исключительно из щебня последних (Хольтедаль У., 1958). В Финляндии еще Б.Фростерус отмечал, что состав обломочного материала “морены” определяется литологией и составом местных коренных пород. На этом основании он даже подразделял “морены” на “кварцитовые”, “сланцевые”, “гранитные” (приводится по Г.С.Бискэ, 1959). К сказанному можно добавить, что прослеживание валунных шлейфов из “основной морены” в Финляндии показало в общем небольшое перемещение валунов от коренного источника от десятков и сотен метров до 10-20 километров, обычно же преобладают конуса разноса валунов длиной 0.5-4 км (Salonen, 1987). Тесная связь состава валунно-глыбового материала с породами фундамента (местными и подстилающими) характерна и для “донной морены” Кольского п-ова (Сидоренко, 1961). Материалы по петрографическому составу валунов и галечной фракции “донных морен” западной части Кольского п-ва, показывающие их тесную связь с местными коренными породами, приведены в отчетах по валунным поискам (Чувардинский и др., 1978, 1980, 1984), а также в ряде геолого-съемочных отчетов Карельской, Центрально-Кольской и Тематической экспедиций ПГО “Севзапгеология”. В монографии “Четвертичный покров Балтийского щита” (1988) эти данные подытожены и сделаны следующие важные выводы: 1. При малой мощности четвертичного покрова (до 10 м) обломочный материал ледниковых отложений щита надежно отражает состав подстилающих их коренных пород. 2. Мелкозем морен по минеральному составу и составу химических элементов близок к составу подстилающих их пород фундамента при мощности морен до 10 м. Связь их с коренным субстратом проявляется и при мощности до 20 м, а в отдельных случаях и до 50 м. 3. В условиях небольших мощностей морены, заключенный в ней обломочный материал (особенно в ее нижних слоях) является наилучшим индикатором подстилающих пород фундамента. Соглашаясь с этими выводами, следует отметить, что заключения о тесной связи состава валунов “морены” именно с подстилающими породами не всегда корректны. Такие выводы зачастую базируются на изучении состава валунов “морен”, перекрывающих обширные поля гнейсов, зеленокаменных пород, крупные массивы гранитов и т.д. Действительно в таких районах валуны нередко на 90% и даже на 100%, состоит из комплекса пород, в полосе которых лежит “морена” Но ведь валуны могли быть перемещены из любых частей контура этих пород. Поэтому с таких случаях следует говорить не о прямой связи валунов с подстилающими породами, а о связи с местными породами, о небольшом переносе валунов. Наши исследования в западной части Кольского п-ова (на участках развития небольших массивов базитов и гипербазитов) показали, что валуны и глыбы основных и ультраосновных пород смещены с этих массивов на расстояние от десятков до нескольких сотен метров и первых километров (Чувардинский и др., 1980, 1984). В составе “морены”, перекрывающей наиболее мелкие массивы с поперечным сечением до 100 м, валуны на 90-100% состояли из вмещающих гнейсов, амфиболитов, гранито-гнейсов. Лишь единичные валуны подстилающих габбро-норитов и перидотитов встречались в “морене”, лежащей на поверхности таких массивов. Валунное опробование, проведенное на одном из небольших интрузивов - массиве Пауст-2 (пробы по 100 галек в каждой отбирались из горных выработок, пройденных в контуре массива) не выявило ни одного обломка подстилающих пород в 10 пробах, и лишь в 5 пробах они составили 3-5%. Массовое скопление валунов и крупных глыб (до 15 м в поперечнике) пород, слагающих массив - габбро-норитов, перидотитов и пироксенитов, наблюдаются близ северного контакта этого массива и на северо-востоке от него (рис.75). Основная масса глыб и валунов смещена с массива на расстояние 50-150 м, а наиболее дальний перенос валунов - до 1 км прослежен в северо-восточном направлении. Подобные исследования на более крупных интрузивах (никеленосные массивы базитов и гипербазитов на участке Пауст-1) показали, что в составе валунов “донной морены”, перекрывающей массивы, имеются валуны пород, слагающих массивы в количестве до 10-15%, но они группируются ближе к их контакту - по направлению сноса. Массовые скопления валунов этих массивов и здесь картируются за пределами контура массивов (рис.76). Близкие результаты были получены и при изучении валунных шлейфов никеленосных массивов базит-гипербазитов Карикъявр-1 и Западный Карикъявр (бассейн р.Титовка) (см. рис.83). В контуре этих массивов валуны подстилающих ультраосновных и основных пород содержатся в количестве, не превышающем нескольких процентов. Основная часть валунов и глыб смещена с массивов в северо-восточном направлении на расстояние от десятков метров до нескольких сотен метров, а массовое скопление глыб рудных пироксенитов и перидотитов, аналогичных породам массива Карикъявр-1 закартировано в 1.5 км к северо-востоку от него. Здесь валунный шлейф внезапно обрывается. Таким образом, приведенных примеров вполне достаточно, чтобы констатировать: валунно-глыбовый материал “донных морен” Балтийского щита в своей массе испытал определенное перемещение. На одних участках щита перемещение материала невелико: десятки метров, первые сотни метров. В других районах часть валунов перемещена на несколько километров, и даже на расстояние до 10-15 км и иногда более. Причины неравномерного перемещения валунно-глыбового материала и механизм этого перемещения рассмотрены в разделах 3.6, 4.7, 4.8.
О мелкоземе “донной морены” Вопрос происхождения мелкозема - песчано-глинистой составляющей “морены” немаловажен. Выше отмечалось, что мелкозем “морены”, также как и валунно-глыбовый материал, имеет тесную связь с местными (“подстилающими”) коренными породами. Указывалось на сходство минерального состава и состава химических элементов с местными породами, подчеркивалась зависимость цвета песчано-глинистых отложений от цветовой гаммы местных пород. Каково же происхождение мелкозема? Сформировался ли он в процессе перетирания ледником кристаллических пород и валунов, как это трактуется в контексте ледниковой теории, или имеет другой генезис? Исследования В.Я.Евзерова, А.П.Афанасьева, А.В.Сидоренко показали, что мелкоземистая составляющая “морена” обнаруживает много общего с материалом кор выветривания, остатки полей которых и ныне развиты в ряде районов Кольского полуострова. На основании проработки большого фактического материала В.Я.Евзеров пришел к следующим выводам: “распространенное мнение об истирании ледником... обломочного материала до размера алевролита, равно как и предположение об образовании больших масс частиц песчано-алевролитовой размерности в результате истирания движущимся ледником скального ложа, ничем не аргументировано. Гораздо более естественным представляется объяснение высокого содержания алевролитовых частиц в морене (нередко 20-40%) их заимствованием из миоцен-плиоценовых кор выветривания кристаллических и осадочных пород” (Евзеров, 1983, стр.90). Основным источником мелкозема “морены” были песчано-глинисто-дресвяные (гидрослюдистые) коры выветривания миоцен-плиоценового возраста. На это указывают следующие факты: глинистая фракция “морены” состоит из минералов, характерных для кор выветривания данного типа - гидрослюды, иллита, вермикулита, минералов группы каолинита, галлуазита и некоторых других (Афанасьев, 1977). Для песчаной фракции “морены” характерно высокое содержание устойчивых к выветриванию минералов (сохранившихся поэтому в корах выветривания) - граната, дистена, силлиманита, циркона, рутила, ильменита, лопарита, кварца. Мощность песчано-глинисто-дресвяных гирослюдистых кор выветривания, сохранившихся на больших площадях в восточной половине Кольского полуострова (бассейн р.Поной, руч.Коловай) составляет в среднем 2-6 м, а мощность остаточных полей кор этого типа в центральной и западной частях Кольского полуострова варьирует от первых метров до 40 м (Афанасьев, 1977). Переотложение этих кор выветривания, (а оно происходило, как это будет показано ниже, путем перемешивания с валунно-глыбовым материалом разрушаемых дислоцированных тектонических блоков) вполне достаточно для формирования мелкоземистой составляющей “морены”, являющейся по существу тектоно-механической смесью. Мощность “донных морен” Кольского полуострова и Карелии (а так же Финляндии), как известно, колеблется от первых метров, до нескольких десятков метров, в среднем составляя 4 м. В процессе формирования валунно-глыбовых отложений в их состав включались также морские, озерные и аллювиальные четвертичные отложения. Определенная часть мелкозема поставлялась за счет дробления и перетирания пород в зонах разломов. Можно считать, что мелкозем “морены” гитерогенный, но его доминирующей частью является материал гидрослюдистых кор выветривания.
4.2. Черты структурного и текстурного строения “донных морен” За последние 15 лет были достигнуты большие успехи в изучении структур и текстур валунных отложений Балтийского щита и Русской платформы в целом (работы А.Д.Лукашова, Ю.А.Лаврушина, С.И.Рукосуева). Эти работы выявили ряд неизвестных ранее особенностей внутреннего строения “морен”. Оказалось, что в толще “донных морен” наблюдаются многочисленные сложные разрывные дислокации, для них характерна общая деформированность отложений, текстуры динамического типа. Так, в “донных моренах” Карелии установлено широкое развитие чешуйчатых надвигов, сколов, трещин отрыва. Внутри и в подошвенной части “моренного” пласта на плоскостях сколов наблюдаются зеркала скольжения и зоны катаклаза. Характерна и общая брекчированность толщи “морены” (Лукашов, 1980, 1986; Рукосуев, 1982, 1986). Этими же исследователями в толще морены установлены разного рода смятия, в том числе складки продольного и поперечного изгиба, будинаж-структуры, мелкая пластинчатость. Разрывные дислокации - надвиги, сколы, нарушенность валунных отложений, включение в них клиньев песков, глинистых отторженцев наблюдались нами на Кольском п-ове в разрезах по дороге Никель-Приречный, в районе г.Бол.Кариквайвишь - оз.Шульгуявр, шурфах на детальном участке Солозеро (бассейн р.Лотта). В приподошвенных частях “морены” на участке Солозеро (Пауст-2) зафиксированы притертые галечно-щебнистые образования типа какиритов, и мелкие зеркала скольжения (Чувардинский и др., 1984). Ранее многочисленные разрывные дислокации, перемятость “морен” (сложенных различными литологическими разновидностями) наблюдались автором в разрезах между оз.Мунозеро и оз.Индель, в береговых обрывах оз.Вялозеро. Как показывают литературные данные, широко развиты подобные деформации и в валунных отложениях Русской равнины. Для “донных морен” и здесь характерны массовые нарушения. Толщи “морен” нередко разлинзованы, смещены по надвигам, в них наблюдаются многочисленные ксенолиты подстилающих образований (Астахов, 1984). И.И.Краснов, Д.Б.Малаховский, В.Г.Ауслендер и И.В.Котлукова (1986), обобщив материалы по строению валунных отложений Северо-Запада России, пришли к заключению, что “для ледниковой формации в целом характерно чешуеобразное залегание, наличие тесной связи с составом подстилающих пород, структур захвата, присутствие ледниковых отторженцев, локальных морен, содержащих в своем составе включения буквально всех горизонтов нижележащих дочетвертичных пород”. Более того, микроструктурные исследования “морен” Русской платформы показали, что большая часть их разреза представляет неравномернозернистые брекчии со следами давления и течения (Шумилова, 1974). Исходя из фактического строения “моренных” толщ на Русской платформе (в том числе и на щите), и полной уверенности, что это действительно ледниковые отложения, ряд ученых выдвинули новую теорию образования морены - гляциодинамическую. (Лаврушин, 1976, Лукашов, 1980, 1986, Левков, 1980, Астахов, 1984, 1987). “Старая” теория, согласно которой формирование морены происходит путем таяния льда и вытаивания из него включений моренного материала, была объявлена неправильной, “не выдерживающей никакой критики” и “не заслуживающей, чтобы на ней останавливаться” (Лаврушин, 1976). Что же предлагается взамен “старой” теории формирования морены, каков “новый” механизм ее формирования? Видный представитель новой концепции Ю.А.Лаврушин в монографии “Строение и формирование основных морен материковых оледенений” (1976) пишет о преобразовании мореносодержащего льда в готовую морену непосредственно под ледником и сохранении в ней всех структур и текстур, присущих придонным частям льдов. “Мореносодержащий лед, указывает Ю.А.Лаврушин, в ходе своего движения, т.е. на стадии транспорта обломочного материала, постепенно преобразуется в достаточно компактную массу, также продолжающую свое послойно-дифференцированное движение, но уже имеющую все характерные черты готовой морены. По сути дела эта готовая морена уже обладает той самой структурой и текстурой, которая и дальше сохраняется в ископаемом состоянии” (с.157). И далее, “в целом чешуйчато-надвиговое строение моренного покрова отражает осложнение предшествующего пластического течения мореносодержащего льда, находившегося на различных стадиях преобразования, в готовую монолитную морену. Именно поэтому, по отношению к последней чешуйчатые морены, конечно, почти всегда являются в той или иной степени наложенными, вторичными. Однако процесс моренообразования продолжается в зоне развития текстур движения льда по плоскостям внутренних сколов, что позволяет считать формирующиеся при этом чешуйчатые морены также консидиментационными” (Лаврушин, 1976, с.157). Эта длинная цитата приведена для более полного понимания читателем сути новой гляциодинамической теории формирования морены. Эта теория весьма уязвима с точки зрения механики движения природных льдов. Предлагаемые процессы находятся в явном противоречии с физическими свойствами льда. Поскольку этот вопрос уже рассмотрен, здесь следует остановиться на другом аспекте этой проблемы: о возможности преобразования мореносодержащего льда в готовую морену, с сохранением всех присущих ему структур и текстур. Прежде всего следует отметить, что наличие мореносодержащего льда в современных ледниковых покровах скорее исключение, чем правило. Буровые работы на ледниках Арктики показывают, что они практически лишены придонного мореносодержащего слоя льда, если за него не считать отдельные включения в лед минеральных зерен, агрегатов частиц и включений “неразличимых невооруженным глазом” (см. раздел 1.1). В тех же ледниковых покровах, где удается выявить мореносодержащие придонные льды, мощность их, при общей толщине ледникового покрова в 2-3 км, колеблется от долей метра до 7-15 м. Отдельные минеральные включения иногда прослеживаются вверх по разрезу ледника на 40-50 м. При этом содержание моренного материала в слое мореносодержащего льда составляет от 0.24% (Гренландия) до 1.6% (Антарктида). А если материал распределить на всю толщу льда, то это будет выражаться в микро-тысячных долях процента. Даже если допускать маловероятный (так и не доказанный авторами новой теории) процесс преобразования мореносодержащего льда в “готовую морену”, то мощность ее не превысит в этих случаях 0.1-0.65 м. Но могут ли сохраниться структуры и текстуры мореносодержащего льда при образовании морены при столь мизерном содержании в нем обломочного материала? Как поведет себя минеральный детрит, включенный в лед, при таянии огромных, 2-3-километровой толщины, масс материковых льдов. А ведь такое таяние в отношении четвертичного Европейского ледникового покрова придется признать (если, конечно, признается само существование этого ледяного покрова. Более того, это таяние должно было быть просто катастрофическим: в работах палеогеографов период последнего оледенения Европы (валдайского, осташковского) определяется в интервале времени 24-9.4 тыс.лет назад и даже 20-10.5 тыс.лет назад (Келлер, Лаврушин, 1970). За это время ледник должен проползти от Скандинавии до верховьев Днепра и затем расстаять. Если половину отпущенного времени оставить на продвижение ледника, то на его таяние придется всего 5-7 тыс.лет. Нетрудно представить, какое огромное количество воды образуется при таянии столь мощного ледникового покрова, каким принято его изображать. И естественно, без участия водных масс не может происходить процесс отложения морен, процесс их многократного оползания, селевого переотложения, перемыва. О каком сохранении текстур и структур в мореносодержащем льду здесь может идти речь? Не поторопились ли похоронить старую теорию таяния льдов сторонники гляциодинамической концепции? Кстати, описание таяния современных ледников на Шпицбергене и действительный процесс формирования морены можно найти в другой монографии Ю.А.Лаврушина “Четвертичные отложения Шпицбергена” (1969), где он пишет: “Характерной чертой долинных ледников Шпицбергена, оканчивающихся на суше, является наличие зоны мертвых льдов. В этой зоне лед прекратил свое движение и пассивно тает... С поверхности зона мертвых льдом сложена плохо сортированным щебнисто-валунным материалом срединных и боковых морен, а также отложениями талых ледниковых вод... Нередко прямо на глазах на склонах ледяных холмов происходит массовое всплывание материала, появляются обнажения льда, начинающего интенсивно таять. В результате у подножия таких холмов появляются труднопреодолимые грязевые болота, иногда соединяющиеся друг с другом в довольно большие грязевые массивы... В периферической части ледников лед уже почти весь вытаял и материал, вследствие воздействия процессов эрозии и оплывания более или менее равномерно распределился по бывшему ледниковому ложу... В целом в рассматриваемой зоне может образоваться взаимоотношение абляционных, основных морен и водноледниковых отложений” (Лаврушин, 1969, с.67-69). Ю.А.Лаврушин подробно описал здесь таяние горно-долинных ледников, несущих на своей поверхности значительное количество материала склонового происхождения и, кроме того, имеющих в своей нижней части какой-то объем примерзшего терригенного материала. В целом в ледниках горно-долинного типа содержится (на единицу объема льда) несоизмеримо больше включений обломочного материала, чем в материковых льдах. К тому же объем льда и, соответственно, заключенной в нем воды, у материковых льдов также несоизмеримо больше. Следовательно, при таянии материковых ледниковых покровов процессы водного, селевого, солифлюкционного и оползневого перемыва и переотложения вытаивающих из ледника моренных включений будут происходить еще более интенсивно. Особенно это касается предполагаемого осташковского ледникового покрова, который для того, чтобы исчезнуть в отпущенный палеогеографами отрезок времени, должен был таять в катастрофическом режиме. Если и допускать оледенение Европы, то динамические структуры и текстуры, являющиеся неотъемлемой чертой валунных суглинков и супесей, не могли сохраниться в условиях таяния ледникового покрова, даже если эти текстуры и структуры существовали в слое мореносодержащего льда. Следовательно, генезис текстур и структур и “морен” их вмещающих, должен быть пересмотрен. Широкое развитие в “основных моренах” Русской платформы разрывных и пликативных дислокаций, зеркал скольжения, зон катаклаза, брекчирования послужило причиной тому, что эти отложения стадии рассматриваться в качестве тектонитов, к ним стали применять термин “катакластический диамиктон”, “ортоморены” (Астахов, 1987). Хотя эти отложения по-прежнему рассматриваются в качестве морены, они по существу потеряли климатостратиграфическое значение. В самом деле, тектоническое скучивание морских и континентальных отложений, ведущее к чешуеобразному залеганию отложений, приводило к столь сложному строению рыхлой толщи, что в отдельных разрезах исследователи насчитывали до 16 “моренных” и ”межморенных” прослоев и на этом основании выделяли 16 ледниковых эпох. Тогда как в непосредственной близости от опорного разреза имелся только один слой “морены” и одно “оледенение”. Не случайно некоторые исследователи приходят к выводу, что “ледниковая формация севера Русской платформы лишь в частных случаях может иметь стратиграфическое значение, главными же для этой формации являются структурные границы” (Астахов, 1987).
4.3. К механизму формирования валунно-глыбовых отложений (Балтийский щит) Каково же происхождение и механизм формирования валунно-глыбовых отложений (“донной морены”) Кольского п-ова и Карелии? С чем связаны столь характерные для них внутрипластовые и приподошвенные надвиги, общая брекчированность отложений, другие динамические структуры и текстуры? Представляется, что рассматриваемые динамические структуры и текстуры в толще валунно-глыбовых отложений следует относить к разряду тектоно-динамических, а само формирование отложений связывать с теми же неотектоническими дислокациями, которые сформировали “экзарационный” рельеф щита. Именно приповерхностные дислокации - взбросо-надвиги, сдвиги и сбросы являются причиной формирования валунно-глыбовых отложений с присущими им структурами и текстурами. Эти дислокации взломали самую верхнюю часть кристаллического фундамента, сформировали “экзарационный” рельеф, дали массу валунно-глыбового материала - за счет разрушения смещенных блоков и пластин. Разрушение смещенных блоков пород, распад их на более мелкие отдельности являлся следствием падения напряжений в дислоцированных элементах (тектоно-кессонный эффект, описанный П.М.Горяиновым и И.В.Давиденко (1979). Распаду смещенных блоков на глыбы, валуны и более мелкие отдельности способствовала трещиноватость пород, ячеисто-блоковая структура кристаллического основания щита). Другая составляющая валунно-глыбовых отложений - песчано-глинистая фракция, является материалом кор выветривания, перекрывавших коренные породы до их деформации чехлом мощностью до нескольких метров. Механизм формирования валунно-глыбовых отложений в своей основе представляет единый процесс, заключившийся в тектонической деструкции верхней части кристаллического основания щита, распаде на глыбы и более мелкие отдельности дислоцированных элементов, перемешивании этих обломков с песчано-глинистым материалом кор выветривания (рис.77). Немалую роль в последующем переотложении материала играла солифлюкция, оползневые, склоновые процессы. В зависимости от тектонической активизации того или иного геоблока, зоны разломов, процессы тектонического скалывания, смещения, сдвигания блоков, перемешивания валунно-глыбового и песчано-глинистого материала могли быть однократными или многоразовыми. При однократном цикле тектонического скалывания - смещения формировались поля глыбовых образований и деформированной коры выветривания, которая неравномерно заполоняла межглыбовые пустоты. Такие отложения широко развиты на Кольском п-ове и получили название “локальные морены” (Никонов, 1964). Геологи-съемщики относят их к элювиально-делювиальным отложениям или свалам. Глыбовый материал этих “морен” не испытал значительного перемещения и в общем соответствует составу подстилающих пород. В зонах долгоживущих разломов - типа Кандалакшского или Ладожского грабенов, дислокационный процесс имел многоцикличный характер и проявлялся на протяжении этапа неотектонической активизации щита. Это приводило к многократному скалыванию кристаллических пород, многократному смещению дислоцированных пластин и их разрушению. При этом происходило последовательное тектоно-механическое перемешивание обломочного материала и пассивное его перемещение на дислоцированных блоках и крыльях разломов. Если во время первого цикла разломообразования мелкоземистая фракция “морены” формировалась за счет кор выветривания, то в последующие этапы тектонической активизации в дислокационный процесс вовлекались уже четвертичные, морские, аллювиальные и другие отложения. Это приводило к формированию глинистых или галечниковых “морен” с включением эрратических валунов аллювиального или ледово-морского разноса. Геоблоки и разломные зоны с менее интенсивным проявлением неотектонических дислокаций можно отнести к наиболее типичным. Скалывание блоков пород, перемешивание разрушенных частей с материалами кор выветривания (и другими отложениями) здесь происходило неоднократно, но дислокационный процесс носил локальный характер. На это указывает относительно небольшое перемещение валунно-глыбового материала - до сотен метров и первых километров. Особо следует остановиться на факте, заключающемся в том, что на площадях щита, где неотектоническая активизация была проявлена слабо, “донная морена” отсутствует. Ярким примером этому является восточная часть Кольского п-ова, в центре которой (бассейн рек Поной, Пурнач, верховья Варзуги, Стрельны, Чапомы, Иоканьги) кристаллические породы перекрыты гидрослюдистой корой выветривания и (или) продуктами их перемыва - элювиально-делювиальными отложениями (см. рис.81). Феноменальным является и практическое отсутствие во всей этой обширной (порядка 30-32 тыс. кв.км) области морены. Это нашло отражение и на “Карте четвертичных отложений Кольского полуострова” масштаба 1:1000000 и “Карте четвертичных отложений Северо-Запада РСФСР” м-ба 1:2500000, изданных в 1962 и 1967 гг. ПГО “Севзапгеология” (ред. И.И.Краснов, Н.И.Апухтин) и более мелкомасштабной “Карте четвертичных отложений советской части Балтийского щита”, приложенной к монографии “Четвертичный покров Балтийского щита” (1988). Обстоятельное описание кор выветривания и элювиально-делювиальных отложений этой обширной области дано А.В.Сидоренко (1958), который пришел к следующим выводам: “Вообще в центре восточной части Кольского п-ова отложений, которые можно было бы рассматривать как ледниковые, нет. Среди маломощного покрова, лежащего на коре выветривания, встречаются крупные глыбы чуждых пород, несущие явные следы абразии, абразионные волно-прибойные ниши и т.п. Они, вероятно, принесены плавающими льдами”. Можно, несколько уточняя выводы А.В.Сидоренко, отметить, что эмбриональные формы “морены” все же есть и на этой территории, но эта “морена” развита фрагментарно и явно тяготеет к немногочисленным зонам тектонически активизированных линеаментов. И здесь “морена” имеет тектоническое происхождение. Не менее обширная “безморенная” область известна и в Финской Лапландии. Здесь на площади около 30 тыс.кв.км между оз.Инари на севере и Савукоски и Соданкюля на юге, согласно исследованиям В Кайтанена (1985) и других финских геологов, на коренных породах залегают коры выветривания дочетвертичного возраста, элювиально-делювиальные отложения и наблюдаются многочисленные колонны останцов кристаллических пород - торов. Если сохранность дочетвертичных кор выветривания и отсутствие морены в центре восточной части Кольского п-ова принято объяснять существованием там некоего “мертвого” Понойского ледникового покрова (М.А.Лаврова, А.Д.Арманд и др.), то допущение такого же “мертвого” льда в Лапландии поставит вопрос, каким образом скандинавский ледник двигался на Кольский п-ов? Переваливал ли он через “мертвый” покров или, если да, то почему не оставил морену хотя бы поверх “мертвого” ледникового покрова, с тем, чтобы после таяния последнего дать ей возможность спроектироваться на земную поверхность. Если же скандинавский ледник не перевалил Лапландский “мертвый покров”, то каков был маршрут наступления этого ледника на Кольский п-ов? Такие же вопросы возникают и при рассмотрении понойского “мертвого” ледникового покрова. Если его перекрывал объединенный скандинавско-кольский ледниковый поток (а это, казалось бы, предусмотрено ледниковой теорией - ведь восточная граница упомянутого потока проводится в районе Тимана), то почему отсутствует морена хотя бы этого ледника. Подытоживая материалы по “безморенным” областям, можно подчеркнуть, что на этих тектонически малоактивных геоблоках почти не проявились процессы неотектонического скалывания - смещения, столь характерные для большей части Кольского п-ова и Карелии. Это с одной стороны предохранило дочетвертичные коры выветривания от разрушения, а с другой не привело к формированию чехла “донной морены”. По этой же причине здесь не был сформирован “экзарационный” рельеф, с его глубокими тектоническими озерами, шхерами, фиордами, бараньими лбами и курчавыми скалами. Имеется еще один тип “морены” - существенно глыбовый (или глыбово-щебнистый). Такие образования характерны для гранитоидов Мурманского блока и они рассматриваются то в качестве “донной морены”, то картируются как элювиально-делювиальные свалы. Однако, поскольку эти “свалы” подстилаются отполированными и штрихованными кристаллическими породами (зеркалами скольжения), то их следует относить к тектоническим образованиям. Это продукты распада дислоцированных приповерхностных блоков пород. Отсутствие в их составе песчано-глинистой фракции вероятнее всего связано с тем, что кристаллические породы на значительных площадях Мурманского блока были обнажены. Кора выветривания на них не сформировалась или была снесена до начала неотектонической активизации. Рассмотренные процессы привели к образованию описанных выше динамических структур и текстур в толще валунно-глыбовых отложений. Наличие этих структур и текстур является дополнительным признаком тектонического генезиса “морены”, так как их природа обусловлена самим механизмом формирования валунно-глыбовых отложений. Перемешивание и перемещение рыхлых отложений под воздействием дислокаций в подстилающих коренных породах неизбежно вызывает разного рода нарушения и смещения в перекрывающем рыхлом чехле. В зависимости от мощности чехла, масштабов и типа тектонических смещений, в перекрывающих отложениях могли возникать сколы, трещины растяжения, мелкие сбросы, чешуйчатые надвиги, складки продольного и поперечного изгиба, будинаж - структуры. На участках проскальзывания рыхлых отложений - а они наиболее многочисленны на границе между кристаллическим ложем и подошвой отложений возникали зеркала скольжения, зоны брекчирования и катаклаза. Подобные структуры могли формироваться и при надвигании блоков кристаллических пород на рыхлые отложения. И тот и другой процесс может привести к скучиванию отложений, образованию “холмисто-моренного” рельефа. Динамические структуры и текстуры можно условно подразделить на конседиментационные и постседиментационные. Первые образовались на стадии формирования валунно-глыбовой толщи. Они почти повсеместны, но плохо выражены, носят следы многочисленных повторных нарушений, по ним развиваются вторичные явления - например мерзлотная слоеватость (сланцеватость). Это и понятно, так как отложения в процессе своего формирования претерпели неоднократное смещение и перемешивание не только под влиянием тектонических движений, но и в результате солифлюкционных процессов, оползания, размыва, общего нивелирования под действием склоновых процессов. Нарушения постседиментационного типа отражают последний, самый молодой цикл тектоно-динамического процесса, поэтому они хорошо выражены - особенно чешуйчатые надвиги. Они нередко формируют “холмисто-моренный”и грядово-кольцевой рельеф. Механизм передачи напряжений в чехол рыхлых отложений под воздействием тектонических движений в фундаменте требует дополнительных специальных исследований. В частности, необходимо определить, в каком состоянии находились рыхлые отложения в период их формирования и смещений. Вполне вероятно, что в отдельные этапы, в частности в верхнечетвертичное время, они были скованы вечной мерзлотой. А мерзлые отложения по своим прочностным свойствам приближаются к скальным и полускальным породам (Цытович, 1973), Они иначе реагировали на дислокации в фундаменте, более того, тектонические напряжения фундамента могли передаваться и им. Отсюда возможность сколовых смещений осадочных вечномерзлых пород под действием тех же касательных напряжений, какие вызывали приповерхностные дислокации в фундаменте. Необходимо остановиться еще на одном геологическом признаке, который обычно выдвигается в качестве наиболее важного доказательства ледникового генезиса валунных отложений - наличие в их толще штрихованных и полированных валунов “плосковыпуклой” и “утюгообразной” формы. Действитеьлно, такие валуны характерны для валунно-глыбовых отложений Кольского п-ова. Полировка граней валунов, штриховки на них - это результат образования части таких валунов за счет распада на глыбы и другие отдельности аллохтонных блоков, подошва которых представляет собой серию зеркал скольжения. На таких валунах штрихи имеют все черты их тектонического генезиса - общий параллельный рисунок, наличие поперечных сколов, а нередко и пленку стресс-минералов, катаклазитов и милонитов. Вообще для валунов и особенно глыб “донной морены” характерны многочисленные следы скалывания, в том числе и серповидные знаки. Во многих случаях внутри валунов и глыб можно выявить серию мелких зеркал скольжения - путем отделения от них молотком или кувалдой кусков породы. Другая часть валунов - уплощенной и утюгообразной формы - это материал тектонических брекчий. В условиях приповерхностных разломов тектоническая брекчия, хотя и невелика по мощности, но развита в разломах любого типа. Особенно характерна она для надвигов, где формируется за счет срыва пластов, отщепления кусков пород в подошве дизъюнктива. В разломах сдвигового типа формирование брекчии идет за счет отторжения приразломных блоков, тектонических клиньев, отщепов породы и т.п. В процессе смещения крыльев разломов или отдельных приразломных блоков этот материал дробится, прокатывается, уплощается - вплоть до образования валунов утюгообразной формы. Поверхность валунов из тектонической брекчии отполирована, покрыта разноориентированными пересекающимися штрихами и шрамами. Вообще уплощенные и утюгообразные валуны со штриховкой и шрамами - характерная деталь строения тектонической брекчии любого возраста и любой геологической формации. Имеется обширная научная литература, где дано подробное описание строения тектонических брекчий, приводятся фотографии штрихованных уплощенных и утюгообразных валунов (Лукьянов и др., 1975; Александров и др., 1975, 1980; Щерба и др., 1975; Белоусов, 1948, 1985). В этих же и ряде других работ дано описание формирования тектонической “морены”, тектонических тиллитов”. Эти же образования известны как “тектоническое месиво”, согласно В.С.Буртману (1973) “возникшее в подошве и (или) под подошвой двигавшейся тектонической пластины в результате механического воздействия на породы”. В приповерхностных разломах Балтийского щита “тектоническое месиво”, подобное описанному, не формируется. Здесь процессы тектонического дробления и перетирания материала скромнее, но в зонах региональных разломов, в том числе глубинных, такие брекчии вполне вероятны (см. рис.58). Подводя итог изложенному материалу, можно констатировать, что на Балтийском щите сформировалась своеобразная толща валунно-глыбовых отложений четвертичного возраста. Они залегают непосредственно на кристаллических породах фундамента, состав валунов и глыб в них отвечает составу местных и подстилающих пород, а мелкозем преимущественно является продуктом переотложения гидрослюдистых кор выветривания. Для этих отложений характерны динамические структуры и текстуры, свидетельствующие о их неоднократной деструкции и перемещении. Валунно-глыбовый материал также несет черты тектоно-динамического происхождения; полировка и штриховка граней, сколы, уплощенная и утюгообразная форма некоторых валунов. Перемещение валунов и глыб в составе рассматриваемой “донной морены” происходило вдоль разломов и разломных зон на расстояние от первых десятков метров до первых километров и реже до 10-15 км от коренного источника. Можно еще раз подчеркнуть, что формирование валунно-глыбовых отложений обусловлено неотектонической активизацией щита, широким развитием приповерхностных взбросо-надвигов, сдвигов и сбросов, распадом на глыбы и более мелкие отдельности дислоцированных блоков, перемешиванием валунов и глыб с песчано-глинистым материалом кор выветривания. Эти процессы, в зависимости от степени активизации разломов и разломных зон имели одно- или многократное действие, что влияло на литолого-структурное строение отложений и дальность перемещения валунно-глыбового материала. Таким образом, валунно-глыбовые отложения Балтийского щита не являются донной (основной) мореной и к ним предлагается применять термин “диакластиты” от словосочетаний “диаклаз” - разрыв, трещина, кластиты - обломочные отложения.
4.4. Водные “морены”, ледово- и ледниково-морские отложения На Кольском п-ове, в Карелии и северных районах Русской равнины наряду с “донной” мореной выделяют водные морены: потоково-абляционные морены, бассейновые морены, ледниково-морские отложения (Рухина, 1973). Е.В.Рухиной (1973) дана подробная литологическая характеристика этих отложений. Вкратце она изложена ниже. Потоково-абляционная “морена” по объему на 30-50% из галечно-валунного материала, среди которого значителен процент дальнепринесенных галек и валунов. Песчаная и гравийная фракция этой морены составляет 50-60% ее объема, хорошо перемыта и нередко слоиста. Согласно Рухиной, этот тип морены близок к флювиогляциальным отложениям. Валуны в “потоков-абляционной морене”, как и тождественных ей флювиогляциальных отложениях обычно хорошо окатаны, не имеют штриховки и полировки. Их общая отшлифованность водного происхождения. Бассейновые “морены” могут быть гляциально-морскими, ледово-морскими и пресноводными. Отличительной их чертой является сравнительно небольшое содержание валунов и гальки (10-15%) и повышенное содержание песчано-алевролитовой и глинистой фракций - соответственно, 40-45% и 20%. Валуны обычно окатаны, размеры их редко превышают 1-1.5 м в поперечнике, состав в значительной мере эрратический, дальнепринесенный. Отложения абляционных и бассейновых “морен” могут переслаиваться в разрезе. Дополнительно можно подчеркнуть, что для водных “морен” характерно отсутствие непосредственной связи валунов и мелкозема с породами ложа, морены этого типа несут следы сортировки, водной обработки, они нередко слоисты. Галечный и валунный материал, как правило, окатан. Количество галечно-валунного материала, которое указывалось Е.В.Рухиной для потоково-абляционных и бассейновых “морен” в целом справедливо для Карело-Кольского региона, но в отношении ледово- и ледниково-морских валунных суглинков Русской равнины (и Западной Сибири) явно завышено. Количество валунов и галек в этих отложениях составляет первые проценты, а то и доли процента и основная масса - 95-98% представлена песчано-алевролитовой и глинистой фракцией (Кузин, 1981, 1983; Попов, 1953, 1965; Данилов, 1978; Филиппов, 1987). Формирование водных “морен” следует связывать с аллювиальной, озерной и морской (ледово-морской) деятельностью. В частности, на Кольском п-ове выделяются как пресноводные фракции перемытых песчано-гравийно-галечных отложений (озерные, озерно-аллювиальные и аллювиальные образования), так и прибрежно-морские и морские. Последние содержат комплексы фораминифер (Чувардинский, 1982, 1985). Особый вопрос - генезис валунных суглинков и супесей, слагающих обширные пространства севера Западной Сибири, Европейского Севера - от предгорий Полярного Урала до бассейна р.Северной Двины и восточной части Кольского п-ова. Данной проблеме посвящена исключительно обширная литература. Одна группа ученых считает, эти отложения ледниковыми (В.Н.Сакс, С.А.Архипов, В.И.Астахов и многие другие). Другие исследователи доказывают их ледово-морской (или ледниково-морской) генезис (А.И.Попов, И.Д.Данилов, И.Л.Кузин, Н.Г.Чочиа и другие) и рассматривают их как отложения, накопившиеся в замерзающих морях, трансгрессировавших в позднем кайнозое со стороны Арктического бассейна на равнины Западной Сибири и Европейского Севера. Валуны в морские осадки поставлялись припайными льдами, а также айсбергами, как это происходит и ныне в морях Северного Ледовитого океана. Поскольку, на взгляд автора, эта проблема достаточно убедительно решена в пользу ледово- и ледниково-морской концепции формирования валунных суглинков, отметим лишь основные аргументы, приводимые для ее доказательства. 1. Валунные суглинки содержат комплексы фораминифер, реже остракод и солоноводных и морских диатомовых водорослей. В них присутствуют обломки и, иногда, целые створки морских раковин. 2. Поглощенный комплекс легкорастворимых солей, содержащийся в валунных суглинках, характерен для морских отложений. 3. В толще валунных суглинков имеются аутигенные стяжения и конкреции кальцита, вивианита. 4. Количество валунов и галек в суглинках и супесях не превышает нескольких процентов (на Кольском п-ове до 7-15%) и вполне соизмеримо с масштабами современных дрифтовых процессов - разносом валунов и галек припайными льдами (см. раздел 1.2). Имеется и ряд других признаков ледового-морского генезиса этих отложений. Они изложены в работах А.И.Попова, И.Д.Данилова, И.Л.Кузина, Г.И.Лазукова, П.Н.Сафронова, Б.Л.Афанасьева, И.Л.Зайонца, В.С.Зархидзе, В.Д.Безроднова, Н.Г.Чочиа, В.В.Филиппова и многих других исследователей. Отметим также, что ледово-морские отложения в тектонически активных зонах и (или) в зонах динамического влияния разломов подвергались воздействию деструктивно-дислокационных процессов, имевших место в фундаменте и платформенном чехле. Поэтому в их толще нередки различные разрывные и пликативные нарушения, участки смятия, отторженцы, “бескорневые” дислокации, наблюдается чешуеобразное залегание толщ отложений. Механизм формирования отторженцев и дислокаций для территории Западной Сибири и северо-востока Русской равнины рассмотрен в работах И.Л.Кузина, Р.Б.Крапивнера, П.П.Генералова, Н.Г.Чочиа и С.П.Евдокимова.
4.5. Ленточные глины Глины, суглинки и супеси, обладающие ленточной (параллельной) слоистостью принято считать озерно-ледниковыми отложениями. По наличию в разрезе ленточных глин обычно устанавливается и ледниковый генезис вмещающих отложений. Широко используются ленточные глины для целей ледниковой хронологии. Однако, как показывают исследования последних лет и более ранние материалы, ленточные глины Европейского Севера не являются ледниковыми. Из исследований, посвященных генезису ленточных глин важное значение имеют работы Р.Б.Крапивнера, И.Д.Данилова, П.Н.Сафронова, Г.Ц.Лака, которые пришли к выводу о преимущественно морском генезисе ленточных глин и рассматривают их в качестве ваттовых, лагунных, эстуарных и морских сублиторальных осадков. Помимо данных литолого-фациальных анализов и находок морских организмов в ленточных глинах Западной Сибири и севере Русской равнины (они приведены в публикациях названных исследователей), имеются аналогичные данные и по другим районам. Так, в ленточных глинах Кольского п-ова еще Г.И.Горецким (1941) и М.А.Лавровой (1960) установлен комплекс морских и солоноводно-пресноводных диатомей, характерных для портландиевой морской трансгрессии. Этими же авторами, а также А.А.Полкановым в ленточных глинах была установлена морская портландиевая фауна моллюсков. На основании этих данных М.А.Лаврова (1960) пришла к выводу о возможности формирования ленточных глин и в морских условиях. Довольно богатый комплекс преимущественно морских диатомовых водорослей был выявлен в ленточных глинах Г.Ц.Лаком (1971, 1980) в Карелии, в частности на восточном берегу Ладожского озера. На этом основании Г.Ц.Лак приходит к выводу о морском генезисе ленточных глин и приводит ряд литературных примеров формирования их в древних и современны морях. Интересные данные о наличии толщ ленточных глин в Прикаспийском и Азово-Черноморском бассейнах приводятся в работах С.А.Архипова, К.К.Маркова, Г.И.Лазукова и В.А.Николаева (1965), Ю.М.Васильева (1969). По этим данным ленточные глины Прикаспия являются осадками хвалынской трансгрессии, в них заключены раковины дидакн, монодакт, дрейссен, адакн, свойственных лиманным и дельтовым условиям обитания. В Приазовье ленточные глины участвуют в строении так называемой пятой террасы, в них также обнаружены раковины дидакт и дрейссен (Васильев, 1969). Отложение ленточных глин и здесь в основном происходило в лиманных условиях без какого-либо влияния ледника. Касаясь укоренившихся взглядов на несомненно озерно-ледниковое происхождение ленточных глин севера Европы, отметим еще один важный аспект, противоречащий этой точке зрения. Принято, что ленточные слои отражают в озерно-ледниковом водоеме сезонный режим поступления и осаждения ледниковой мути. Известно также, что ленточные глины в разрезе сохраняют довольно постоянное однообразие, представляя монотонное чередование тонких глинистых слоев и утолщенных супесчаных слоев. Мощность толщ ленточных глин различна в разных районах. Близ южного обрамления Балтийского щита мощность позднеледниковых ленточных глин достигает 25-30 м (Герасимов и Марков, 1939) и количество ленто-пар - 1000 и более (Марков, 1955). В некоторых разрезах (в районе Подпорожья) только часть толщи ленточных глин состоит из 8000 лент (Геология четвертичных отложений..., 1967). На Кольском п-ове известны разрезы, где насчитано до 1000 ленто-пар (Горецкий, 1941), Лаврова, 1960). Эти разрезы также относятся к позднеледниковью. Исходя из ледниковой природы ленточных глин и довольно монотонно-постоянного строения лент в каждом конкретном разрезе, необходимо полагать, что тающий ледник поставлял в ледниковые или приледниковые озера равномерное количество глинисто-супесчаного материала в течение длительных промежутков времени. Это время, судя по числу лент, для разных озерно-ледниковых водоемов составляет до 1000 и даже 8000 лет. Если ограничиться довольно обычным числом 400-600 и 1000 ленто-пар, то необходимо допустить стояние и таяние ледника у тех или иных “озерно-ледниковых” бассейнов по 400-1000 лет. (ледниковая стагнация обуславливает необходимое равномерное поступление глинисто-супесчаной мути, отступление же ледника ведет к уменьшению количества такой мути в конкретном пункте, изменению типа слоистости или ее уничтожению). В принципиальном плане можно допустить столь длительные остановки края ледника у приледниковых водоемов и прерывисто-непрерывное существование таких водоемов на пути отступания ледникового щита, если бы время последней (осташковской) ледниковой эпохи было не ограничено. Однако длительность последнего оледенения (а с ним и связывают отмеченные выходы ленточных глин) определена в интервале 24-10 тыс.лет (Вигдорчик и др., 1970; Арсланов и др., 1971; Последний ледниковый покров..., 1965) и даже еще меньше в интервале 20000-10500 лет (Келлер, Лаврушин, 1970). Если половину этого времени отпустить на наступление ледника, то на его деградацию остается 5-7 тыс.лет. Отсюда ясно, что накопления тысячелетних толщ ленточных глин, в ледниково-озерных условиях не получается. При принятом озерно-ледниковом механизме накопления ленточных глин времени, отведенному для ледниковой деградации, хватило бы лишь на образование ленточных глин лишь в районе южной границы оледенения. Можно подойти к этой проблеме и с другой стороны. Утверждают (а это неизбежно и из крайней быстротечности, отводимой осташковскому оледенению), что последний ледниковый покров отступал со скоростью 400-450 м в год и более быстро (Марков, 1931, 1955; Малаховский и др., 1969). Стало быть, при таких темпах отступания ледникового щита количество ледниковой мути, поступающей в конкретную точку озерно-ледникового водоема сильно изменится даже за один год, не говоря о десятках лет, когда ледник отодвинется на многие километры. Это неизбежно должно сказаться на толщине лент, на характере накопления осадков в целом (возможно, и исчезновении ленточности осадков). Однако известно немало разрезов (например, в Заонежье), когда число лент с постоянной мощностью достигает 400-500 (Марков, 1931, 1955). Если учесть, что за эти 400-500 лет (соответствующих 400-500 ленто-парам) ледниковое отступление при отмеченных темпах составит 200-250 км, то весьма трудно говорить о неизменно-одинаковом поступлении ледниковой мути (необходимом для формирования толщ ленточных глин с одинаковой толщиной ленто-пар) в один и тот же пункт водоема. Подводя итог проблеме можно констатировать: для накопления ленточных отложений необходимо постоянство ритмичного режима осадконакопления в течение достаточно длительного времени. Такие условия существуют в прибрежной зоне приливных морей (ватты, лайды) в морских заливах (фиордах, лиманах, лагунах), в западинах морского дна. Ленточные глины могут формироваться и в озерах, имеющих различное питание (дождевое, снеговое или ледниковое). Ленточная слоистость может быть сезонной или отражать более частую ритмичность в поступлении мелкозема (например, при формировании ленточных глин в приливно-отливных условиях), но во всех случаях должны действовать более постоянные природные процессы, чем деградирующий со скоростью 400-500 м в год предполагаемый ледниковый покров.
4.6. О причинах повышенной плотности “морены” Факты повышенной плотности разнозернистых валунных отложений (“морены”) Восточно-Европейской платформы и других регионов принято интерпретировать как доказательство их ледникового генезиса. Высокая плотность (или низкая пористость) “донной” морены долгое время объяснялась статическим давлением огромного ледника, позднее более важным стали считать гляциодинамическое воздействие этого же ледника (публикации Г.П.Мазурова, Т.И.Лавровой, Н.Г.Верейского, Е.В.Шанцера, Ю.А.Лаврушина). Такое объяснение природы повышенной плотности “морены” представляется неубедительным по следующим причинам. “Основные морены” по существующим представлениям отлагаются двумя способами: а) вытаиванием моренного материала из толщи тающего ледника; б) путем отслаивания чешуй мореносодержащего льда. Хотя моренный материал в донной части ледника и испытывает большое давление, но в результате последующего таяния льда и его мореносодержащих чешуй этот эффект должен утрачиваться. Процесс отложения морены идет с участием огромного количества талых вод, перемыва, оползания, переотложения моренного материала. Из практики гидростроительства известно, что “моренные” грунты при отсыпке их в воду (специальные прудки) быстро восстанавливают свою первоначально высокую плотность без специальных нагрузок и давления, тогда как плотность той же “морены”, отсыпанной “всухую” остается много ниже первоначальной, несмотря на применение разных способов ее уплотнения (Васильев и Алексеев, 1951). Открытое А.Ф.Васильевым и К.В.Алексеевым свойство “морены” самоуплотняться в водной среде было подтверждено затем лабораторными исследованиями и практикой возведения плотин в Карело-Кольском регионе и других районах (Роза, 1952; Прочухан, 1964; Калинина, 1964). Самоуплотняемость “морены” в водной среде связана прежде всего с разнозернистым строением этого “грунта”, с возможностью перераспределять частицы в водной среде, приобретая тем самым низкую пористость. К близким выводам пришли А.А.Каган и М.А.Солодухин (1971). Большой вклад в вопрос о высокой плотности “морены” Белоруссии и Средней России внес Н.И.Кригер (1971, 1978), который подтвердил выводы гидростроителей о самоуплотнении “моренного грунта” при отсыпке его в воду. По Н.И.Кригеру высокая плотность “морены” обусловлена ее грансоставом (разнозернистость, близость к составу “оптимальной смеси), влажностью грунта в период седиментации (отложение в водной среде), особенностями рельефа. Эти показатели изменчивы и поэтому пористость “морены” в каждом отдельном разрезе меняется весьма беспорядочно (Кригер, 1978). Н.И.Кригер (1978) указывает: ...”мы не видим в пористости морены надежных следов былого ледникового давления. Подобные факты могут быть объяснены влиянием геологических и физико-географических процессов в настоящее время воздействующих на породу”. Подводя итог причинам низкой пористости “морены” можно подчеркнуть, что это свойство присуще всем разнозернистым грунтам - состоящим из смеси самого разнообразного обломочного материала (от глинистых частиц до валунов). Другим условием высокой плотности такого грунта является отложение его в водной среде, где различные по грансоставу фракции, самоуплотняясь, заполняют все пустоты формирующихся отложений, делая их низкопористыми. При отложении действительно ледникового, моренного материала в воду также, видимо, будет сформирована плотная морена. То же относится и к селевым отложениям. Весьма благоприятные условия для образования плотных валунных отложений имеются при их ледово-морском формировании, при переотложении тектоно-механических смесей в водной (озерной, морской) среде.
4.7. Закономерности перемещения валунно-глыбового материала Картирование рудных и сопутствующих оруденению валунов показало, что такие валуны нередко образуют закономерно ориентированные шлейфы или конуса рассеивания. Эту закономерность используют в практике валунных поисков рудных месторождений, особенно в Финляндии. Финским исследователем В.Салонен (1987) обобщены результаты валунных поисков в своей стране за более чем полувековой период и построены конуса разноса валунов с рудной минерализацией и безрудных валунов, имеющих установленный коренной источник (рис.78). Всего изучено 500 валунных конусов. Подавляющая часть валунов этих конусов являются составной частью “донной морены”, другая часть (особенно валуны дальнего разноса) относится к “потоково-абляционной морене”. Конуса разноса валунов на рис.78 “донной морены” показаны черным цветом, а абляционной “морены” - крапом. Изучение конусов разноса валунов “донной морены” показало, что перемещение их от коренного источника, как правило, небольшое и колеблется от десятков метров до 15 км и иногда более. По данным В.Салонен (1987) преобладают конуса разноса валунов 1-5 км длины (около 45% всех конусов), почти столько же (около 40%) зафиксировано валунных конусов длиной 0-1 км, около 15% составляют конуса длиной 5-15 км и несколько процентов более 15 км. На схеме хорошо видно, что валунные конуса “донных морен” (за исключением некоторых пограничных участков) практически не выходят за пределы Финляндии. Из анализа схемы следует, что валунные конуса образуют закономерно ориентированные системы. В разных поясах Финляндии перемещения валунов происходило в определенном, достаточно выдержанном направлении. Так в Северной Финляндии перемещение валунов происходило в СВ и северном (отчасти в СЗ) направлении. В Средней Финляндии это субширотный - в ЮВ направлении и почти широтный - в восточном направлении разнос валунов. В южной половине Финляндии перемещение валунов шло преимущественно в юго-восточном направлении, с некоторыми отклонениями на отдельных участках к меридиональному (южный снос) и субширотному - почти восточному сносу. Если сопоставить направления перемещения валунов с картой разломной тектоники Финляндии, то ориентировка конусов разноса валунов и простирание разломов удивительным образом совпадают (рис.79). Так в северо-восточной части Финляндии разломы имеют северо-восточное простирание и такое же направление имеет валунный снос. В северо-западной части Финляндии разломы приобретают меридиональное и северо-западное направление - в таком же направлении - в сторону Норвегии происходил снос валунов. В Средней Финляндии явно доминируют разломы субширотного простирания, такую же ориентировку имеют и валунные конуса. Подобная закономерность повторяется и в южной половине Финляндии, где преобладающее простирание разломов - как и валунных шлейфов - субширотное. Разломы контролируют также меридиональное и широтное направление сноса валунов в южных частях Финляндии. Если сопоставить направление разноса валунов и простирание разломов со схемой штриховки на коренных породах, то обнаруживаются новые совпадения: простирание штриховки совпадает с простиранием разломов и, в свою очередь, с простиранием валунных конусов. Эти удивительные совпадения не могут быть случайными - они парагенетически связаны и отражают единый дислокационный процесс: формирование (или подновление) разломов - смещение приразломных блоков вдоль простирания разломов - образование штриховки того же направления - распад смещенных блоков на глыбово-валунный материал. Многократное повторение этого процесса приводило к последовательному смещению валунно-глыбового материала вдоль разломов, к формированию протяженных валунных конусов. Рассматриваемые разломы, видимо, являются сдвигами. Сдвиговая природа ряда крупных разломов этой системы в Финляндии подтверждается геологическими данными (“Медно-никелевые ...”, 1985). Признаками сдвигового происхождения разломов является их выдержанное, линейное простирание, вдольразломная ориентировка штриховки. Процессы вдольразломно-шовного перемещения обломочных масс и выведение их на поверхность в разломах взбросового и взбросо-сдвигового типа рассмотрены в разделе 3.6. Здесь можно лишь привести выводы В.В.Белоусова (1962): Высвобождение материала при горизонтальном сжатии - в надвигах происходит вверх, а в сдвигах происходит его перемещение в горизонтальном направлении. “Вообще говоря, - пишет В.В.Белоусов, - высвобождение материала при горизонтальном сжатии может происходить в любом направлении, перпендикулярном оси сжатия, но не обязательно должно быть направлено вертикально или горизонтально, но может быть наклонным.... Естественно, что в природных условиях при горизонтальном сжатии высвобождение материала вверх должно происходить легче, чем высвобождение его в стороны” (стр.309). Теоретическое обоснование причин вдольразломного смещения блоков в зоне сдвига дано О.И.Слензаком (1984): “Взаимодействие блоков в зоне сдвига - это процесс перераспределения сдвиговой и нормальной среды, последовательной передачи энергии блока, частям контрблока. Последовательное вовлечение в движение относительно покоящихся блоков приводит к смещению границ сдвиговой зоны от разлома. К блоку со стороны контрблока будут причленяться клинья и плоские блоки, параллельные основному разлому, которые уже вместе с блоками будут двигаться в направлении сдвигового смещения”. Как было показано, вдольразломное перемещение плоских блоков и клиньев характерно для сдвигов зоны Кандалакшского грабена. Рассматриваемые дислокационные процессы имеют неотектонический, в основном, четвертичный возраст. Для подтверждения этого тезиса на рис.80 показаны эпицентры исторических землетрясений Финляндии и разломные линии, к которым они приурочены. Живущие ныне разломы совпадают с общим рисунком разломной сети Финляндии, и, следовательно, указывают на унаследовательность общего плана тектонических напряжений кайнозоя и современного этапа. Совпадение направления разноса валунов с простиранием разломов и штрихов наблюдается в Карелии (Бискэ, 1959) и на Кольском п-ове. Так в северо-западной части Кольского п-ова неотектонически активные разломы и штриховка имеют северо-восточное простирание, в том же направлении перемещен валунный материал. В юго-западной части полуострова простирание неотектонических разломов и ориентировка штрихов идет с северо-запада на юго-восток, а в южных районах области и в Северной Карелии раломы и тектоническая штриховка имеют близширотное простирание. В этих же направлениях - в соответствии с простиранием, перемещены валуны (рис.81). Длина кольских и карельских конусов разноса рудных валунов, также как и в Финляндии, изменяется от десятков метров до 10-15 км, иногда более. Преобладающее расстояние перемещения рудных валунов - около 3 км. Возникает вопрос, почему столь устойчиво направление перемещения валунно-глыбового материала, почему система валунных конусов, последовательно сменяя друг друга, имеет устойчивое направление смещения? Сторонники ледниковой теории на этот вопрос отвечают: таково было направление движения ледника. Многих завораживают подобные утверждения, ведь в правильности ледниковой теории, в устоявшихся представлениях о деятельности ледника (в данном случае покровного) не принято сомневаться. Между тем, устойчивая транспортировка валунно-глыбового материала в доминирующем направлении и, отмеченное выше, его вдольразломное перемещение парагенетически обусловлены едиными тектоно-дислокационными процессами, происходящими в разломах сдвигового типа. Это опять-таки можно проиллюстрировать на примере Финляндии, где разломы, вдоль которых идет устойчивое перемещение обломочных масс с северо-запада на юго-восток являются правыми сдвигами (“Медно-никелевые ...”, 1985), Стало быть крылья этих разломов, приразломные блоки и брекчии смещались с северо-запада на юго-восток. Соответствующим образом в этом же направлении, в составе приразломных блоков и рыхлых отложений на крыльях разломов, шло перемещение валунно-глыбового материала. Таким образом, так называемый ледниковый снос из “центра оледенения” (помещаемого обычно в районе Ботнического залива) находит свое физическое обоснование без привлечения гипотезы о великих оледенениях. Можно заметить, что амплитуда горизонтального смещения по правым сдвигам в Финляндии достигает десятков километров и эти сдвиги активны на неотектоническом этапе, так как хорошо выражены в рельефе и к ним приурочены современные землетрясения (см. рис.80). Так 90-километровое горизонтальное смещение по сейсмогенному правому сдвигу (с северо-запада на юго-восток) установлено в Северной Финляндии (“Медно-никелевые ...”, 1985). Если за кайнозойский период смещение по этому сдвигу составило всего 10% (то есть 9 км) от девяностокилометровой амплитуды смещения, то и этого вполне достаточно для формирования вдоль сдвига серии валунных конусов разноса, каждый из которых мог иметь длину порядка 9 км. С учетом смещения приразломных блоков (которое необязательно сопровождалось смещением крыльев сдвига) вдольразломный тектонический транспорт мог быть еще большим (средняя длина валунных конусов в Финляндии составляет порядка 3.5 км). Подобная зависимость направления смещения валунно-глыбового материала от направления сдвиговых смещений наблюдается и на Кольском п-ове. Так, в зоне Кандалакшского грабена устойчивый юго-восточный снос обломочных масс обусловлен развитием здесь системы сдвигов, крылья и блоки которых смещались с северо-запада на юго-восток. Амплитуда горизонтальных смещений по разломам, проходящих по дну Кандалакшского залива, не установлена, но судя по тому, что, например, по оперяющему Старцевскому сдвигу горизонтальное смещение достигает 1.9 км, по более масштабным кандалакшским сдвигам горизонтальное смещение, видимо, составляет многие километры. В пределах западной части Мурманского блока разломы сдвигового типа северо-восточного простирания выражены в рельефе весьма отчетливо, что указывает на их неотектонический возраст. Валунно-глыбовый материал здесь также имеет северо-восточный вдольразломный снос. Вполне возможно, что в дальнейшем направление тектонических смещений будет определяться не только по прямым геологическим признакам (что не всегда возможно), но и по направлению вдольразломного транспорта валунно-глыбового материала. При этом, конечно, надо четко разграничивать, имеем мы дело с валунно-глыбовыми отложениями “донной морены” (диакластитами) или валунами группы “водных морен”. Валуны последних бессистемно переносились припайными льдами в период морских трансгрессий плейстоцена на расстояние в десятки и сотни километров (например, валуны хибинских и ловозерских пород отмечаются на Терском берегу Белого моря, вплоть до устья р.Поной).
4.8. Формирование конусов разноса рудных валунов Веера рассеивания рудных валунов в “донных моренах” имеют различную форму и размеры. Классической формой является конусовидный рисунок валунного шлейфа, равномерно - в виде конуса расширяющийся от коренного источника в сторону сноса материала. Наряду с такими “правильными” конусами разноса широко развиты линейные, полосовые валунные шлейфы, шлейфы изометрической формы и другие типы шлейфов (см. рис.75,76). Как уже отмечалось, длина валунных шлейфов в восточной части Балтийского щита изменяется от десятков метров до нескольких километров, иногда до 15 и более километров. Как и в Финляндии, преобладают валунные веера длиной 1-5 км, но значительно (порядка 40%) количество малых вееров разноса - 0-1 км длиной). Форма, а также длина валунных конусов обнаруживает зависимость от разломно-тектонического строения того или иного района, от типа разломных зон, их порядка, а также размеров разрушаемого тела. Весьма важное, подчас определяющее значение имеет степень неотектонической активизации разлома и разломных зон в целом. Так при линейно-параллельной ориентировке разломов валунные шлейфы в виде узкой полосы вытянуты вдоль разломов на расстоянии от первых километров до 6-10 км и более (рис.82). При сетчатом рисунке разломной сети, где разломы разных направлений пересекаются под прямым или косым углом, масса валунно-глыбового материала не претерпевает существенного перемещения и группируется вблизи разрушенного разломами тела. Часть материала смещается по наиболее активным разломам (см. рис.75). Наиболее протяженные валунные конуса формировались в зонах разломов сдвигового типа. При активизации разломов-сдвигов происходит смещение не только крыльев разлома, но и, главным образом, вдольразломное перемещение приразломных клиньев и плоских блоков, образующих систему мелких сдвигов, параллельных основному разлому. Происходит также выдавливание (по типу взбросов) узких приразломных блоков-клиньев в направлении общего сдвигового смещения. Поэтому валунно-глыбовый материал - продукт распада дислоцированных блоков, в своей основной массе смещался вдоль простирания сдвигов, формировался линейный, полосовой валунный конус (рис.83). Для строения сдвиговых зон характерны оперяющие взбросо-надвиги. Обычно они ориентированы косо по отношению к осевому сдвигу. Соответственно, под этим углом перемещается валунно-глыбовый материал. В итоге формировался веерообразный, конусовидный валунный шлейф. Изучение неотектонических сдвиговых зон показывает, что им присуща еще одна важная динамическая особенность: смещение сопряженных взбросо-надвиговых блоков в системе сближенных сдвигов может идти в направлении близком к сдвиговому смещению. По нашим наблюдениям в Северном Приладожье на участках развития систем сближенных параллельных сдвигов направление смещения взбросо-надвиговых блоков почти совпадает с простиранием разломов-сдвигов. Иначе говоря, разрывы взбросо-надвиговых структур располагаются не под острым углом, а почти параллельно к сдвигам. На это указывают замеры простирания зеркал скольжения (и штрихов и борозд на них) надвигов и сдвигов. Так, в южной части о.Сюскюянсари на гранитоидах, штрихи и борозды на зеркалах скольжения сдвигов ориентированы на СЗ 340º, как и линии разломов сдвигов, тогда как на зеркалах скольжения надвигов и взбросов тех же гранитоидов штрихи и борозды имеют простирание СЗ - 335º. В районах мыса Импиниеми на гранодиоритах простирание штрихов и борозд на зеркалах скольжения сдвигов (и самих сдвигов) СЗ-335º, такое же - СЗ-335º имеют простирание штрихи и борозды на зеркалах скольжения взбросо-надвигов, развитых на тех же гранодиоритах. К западу от мыса Импиниеми на сланцах ладожской серии и гнейсах штрихи и борозды на зеркалах скольжения взбросо-надвигов имеют простирание СЗ-330-350º, а на сдвигах - С-0º-СЗ-350º. Близкие соотношения (с отклонением на 10-20º) простирания структур сжатия и сдвига отмечаются и в других районах Северного Приладожья и на отдельных участках Кандалакшского грабена. Эти наблюдения показывают, что рассмотренные межразломные (“междусдвиговые”) надвиги по существу представляют собой систему плоских сдвигов со взбросовой составляющей. Подошва этих сдвигов-надвигов предопределяется субгоризонтальными трещинами-отдельностей, а толщина смещаемых плоских блоков не превышает (на рассматриваемых участках) 10-20м. Вдольразломное смещение таких плоских блоков, видимо, обусловлено тем, что в системе сближенных параллельных разломов-сдвигов происходит трансформация вектора тектонических напряжений с теоретического угла 45о до 70-80 и даже 90º по отношению к осевым сдвигам. Можно полагать, что эта трансформация вызвана сближенностью сдвигов, тем что векторы напряжений параллельных сдвигов смыкаются в межразломной полосе, образуя единое поле тектонических напряжений. Поэтому межразломные плоские блоки вовлекаются в общее сдвиговое движение, используя для этого те трещины-отдельности, которые совпадают с простиранием сдвиговой зоны, с вектором касательных напряжений. Отмеченная особенность дислокационного процесса в сопряженных структурах сжатия и сдвига приводит к тому, что в системах сближенных сдвигов массовое смещение дислоцированных элементов идет по существу в одном направлении вдоль простирания сдвиговых зон - будь то надвиги или плоские сдвиги. Дислокационный процесс, подобный отмеченному, описан в литературе. В частности, близки к нему системы содвижения Л.М.Расцветаева (1987) (см. рис.15), согласно которому в массивах пород, подвергающихся ориентированному сжатию, образуется система субпараллельных поверхностей скольжения. Ориентировка следов скольжения (штрихи, борозды) на поверхностях тектонических трещин указывает на направление тектонического транспорта (Расцветаев, 1987). На близкие механизмы развития сдвиговых зон ранее указывали Дж.Муди и М.Хилл, а также М.Чиннэри. Находят подтверждение эти механизмы и в экспериментальных исследованиях. Так согласно Д.Н.Цветковой и Н.Ю.Осокиной (1979) в лабораторных опытах “в секторах сжатия сдвигов чаще всего реализуются те из сопряженных систем надвигов (или взбросов) у которых проекция вектора смещения висячего крыла имеет одно направление со смещением данного крыла основного разлома... Такие надвиги как бы продолжают движение по разлому..” Выводы Цветковой и Осокиной подтверждаются экспериментами П.М.Бондаренко и И.В.Лучицкого (1985) и С.Стоянова (1977) (рис.84,85). На Кольском полуострове широко развиты и самостоятельные надвиговые структуры. На участках преобладающего развития таких надвигов формируются валунные шлейфы, имеющие форму неправильных гряд и полос. Они ориентированы параллельно простиранию надвиговых структур и группируются близ выхода разлома на поверхность (см. рис.75). Как уже рассматривалось в разделе 3.6, в шовных зонах крупных сдвигов и взбросо-надвигов, в первую очередь глубинных и региональных, кроме приповерхностных дислокационных процессов, действует механизм субвертикального выдавливания приразломных блоков и тектонической брекчии. Выведенный на поверхность с глубины в десятки и сотни метров валунно-глыбовый материал концентрируется вдоль шовной зоны разлома, смешиваясь при этом с материалом приповерхностного происхождения. В результате формируются линейные, вдольразломные валунные шлейфы. Глубинный валунно-глыбовый материал по петрографическому составу может быть аналогичен обломкам приповерхностного происхождения - если разрез докембрия на данном отрезке разлома не меняется с глубиной. Более типичны условия, когда часть грубообломочного материала глубинного генезиса выступает в качестве экзотического. Среди этого материала могут быть обнаружены и обломки рудоносных пород (что необходимо использовать в поисковых целях, в том числе при проведении валунных поисков) (рис.86). Для блоков и глыб, выведенных по разломам в составе тектонических брекчий характерна полировка плоскостей, штриховка, а валуны тектонической брекчии того же происхождения имеют уплощенную, “утюгообразную” форму, отполированные их грани покрыты разноориентированными штрихами и шрамами.
4.9. О происхождении “морены” на Восточно-Европейской равнине
4.9.1. О мелкоземе морены Как известно, “морена” Русской равнины более чем на 90-95% (а иногда и почти на 100% состоит из мелкозема (глины, супеси, пески), в ней отмечаются лишь единичные валуны и галька. Гравийная фракция (которую почему-то принято относить к крупнообломочному материалу) составляет несколько процентов. Поэтому важно знать происхождение мелкозема “морены”. При описании литологии “морены” отмечалась тесная связь мелкозема морены с подстилающими рыхлыми образованиями кайнозоя, мезозоя и палеозоя (а также и корами выветривания). Существование такой зависимости подтверждается и анализом минерального состава “ледниковых” отложений. По Е.В.Рухиной (1973) в песчаной и песчано-глинистой фракции морены Русской плиты крайне незначительно количество тяжелой фракции, а легкая фракция на 80-90% состоит из кварца. Примерно такие же соотношения минералов тяжелой и легкой фракций устанавливаются в протолочных пробах местных пород чехла (Ленинградская область). Прямая зависимость минерального состава мелкозема “морены” с подстилающими породами была установлена и в Эстонии. Согласно А.В.Раукасу (1962) в “морене”, перекрывающей карбонатные ордовикские и силурийские породы, резко возрастает количество карбонатного материала. Непосредственно же южнее, в области развития девонских песчаников карбонатный материал почти исчезает, но происходит обогащение “морены” кварцем и полевыми шпатами, а также цирконом, турмалином, рутилом. Эти минеральные ассоциации характерны для кор выветривания песчаников. В Литве по данным А.Ю.Климашаускаса (1965) основная масса мелкозема “морены” - от мелкопесчаной до глинистой фракции, сложена минералами, заимствованными из подстилающих осадочных пород. По исследованиям С.Д.Астаповой (1978) в Белоруссии выделяется четыре крупных минералогических провинции: северная (Поозерье), западная (Понеманье), восточная (Приднепровье), южная (Полесье), в пределах которых “морены” характеризуются определенными ассоциациями терригенных минералов. Внутри этих провинций выделяются и более мелкие участки с характерным минерально-химическим составом песчано-глинистой фракции. На основании сходства минерального и микроэлементного состава докайнозойских образований и “морены” С.Д.Астапова приходит к выводу о сильном влиянии местных пород на состав “морены” и устанавливает связь разных типов “морен” с местными питающими провинциями. Исследования М.Ф.Веклича (1961) на Украине также показали, “что мелкоземистая фракция морены” испытывает сильную зависимость от состава подстилающих доледниковых отложений. Согласно М.Ф.Векличу это указывает на громадную роль местных пород, в частности, лессов как источников питания ледниковых отложений. Таким образом, и на Русской платформе, так же как и на Балтийском щите, мелкозем морены имеет местное происхождение. Во всяком случае оснований для утверждений о переносе мелкозема ледниками из Фенноскандии не имеется.
4.9.2. О характере связи крупнообломочной фракции “морены” с подстилающими породами В отличие от Балтийского щита, на Восточно-Европейской плите вопрос о связи крупнообломочного материала “морены” с породами кристаллического фундамента плиты не стоял. Считалось, невероятным, что такая связь может существовать - ведь кристаллическое основание перекрыто мощным чехлом осадочных пород палеозоя, мезозоя и, отчасти, кайнозоя. Все (или почти все) валуны кристаллических пород считались перенесенными ледником с Балтийского щита. Бóльшая ясность имеется относительно обломочного материала осадочных пород. Так, еще Ф.Шмидт отмечал, что в Эстонии в пределах Ордовикского плато крупнообломочный материал “морены” почти полностью представлен известняками и мергелями-породами, слагающими Ордовикское плато. Многие современные исследователи также отмечают ту или иную связь валунов (и даже мелкозема) “морены” с подстилающими или местными породами. На такую зависимость указывает Е.В.Рухина (1973), подчеркнувшая, что эта зависимость выражается в составе крупнообломочной фракции и мелкоземе “морены” и, нередко, в окраске отложений. Так, по Е.В.Рухиной “морена”, лежащая на карбонатных породах палеозоя имеет желтовато-серую окраску, содержит щебень и валуны карбонатных пород. “Морена”, перекрывающая красноцветные породы палеозоя имеет красно-бурый цвет, в ней резко преобладают обломки подстилающих пород. В полосе развития темно-серых и черных юрских глин окраска морены - темно-серая. Светлые морены с мелкими валунами мела характерны для областей развития мезозойских меловых пород. По наблюдениям того же автора в Ленинградской области “морена”, развитая на синих кембрийских глинах, по внешнему виду почти не отличается от этих глин, за исключением того, что в ее составе имеются отдельные включения валунов (Рухина, 1973). Подобные закономерности установлены Я.Жеховски (1978) в Польше, где наблюдается зависимость состава мелкозема и крупнообломочной фракции морены от подстилающих отложений плиоцена, миоцена и олигоцена. В целом факты зависимости состава “морены” Восточно-Европейской платформы от подстилающих (местных) пород достаточно хорошо известны и мало кем оспариваются. Недостаточно изученным представляется лишь соотношение крупнообломочного материала в “морене” осадочных и кристаллических пород. Обычно указывают на относительно небольшой процент последних (1-20%). Специальные исследования, проведенные А.И.Гайгаласом (1978) в Литве, показали, что в крупнообломочные фракции “морены” обычно содержат около 20-25% (иногда до 40%) “крупнообломочного материала” кристаллических пород. Надо однако заметить, что материал, именуемый А.И.Гайгаласом “крупнообломочным” имеет размеры 3-30 мм, то есть это по существу гравийная фракция с небольшой примесью мелкогалечной. При этом следует учитывать, что обломочный материал осадочных пород - доломиты, мергели, известняки, алевролиты и др. разрушается до состояния песка и глины гораздо быстрее, чем обломки кристаллических пород. Кроме того, недостатком работы А.И.Гайгаласа является отсутствие гранулометрических анализов “морены”, что не позволяет определить содержание крупнообломочного материала в этих отложениях. Если обратиться к гранулометрическим анализам “морен” по соседней Белоруссии, то оно составляет 0-8% (во фракции 10-2 мм), а во фракции, которую условно можно считать валунной, (100-10 мм) - 0-1% (Каган, Солодухин, 1971 ).
4.10. Проблема происхождения валунов кристаллических пород на Русской платформе Валуны кристаллических пород, входящие в состав этих отложений, являются одним из главных аргументов существования покровных оледенений на Русской равнине. Более того, выделена целая группа так называемых руководящих валунов, коренной источник которых привязывается к определенному массиву или полю развития тех или иных пород в Финляндии. Швеции, Карелии и на Кольском п-ове. В книге “Кристаллические руководящие валуны Прибалтики” (авторы Х.Вийдинг, А.Гайгалас, В.Гуделис, Р.Тарвидас) приводится список более чем 70 разновидностей руководящих валунов с привязкой их коренного источника в Швеции, Финляндии, Карелии, на дне Балтийского моря. Из них 17 разновидностей представлено плагиоклазовыми и микроклиновыми гранитами, шесть относятся к группе гранитов-рапакиви, четыре - к диабазам, три - к мандельштейнам. Руководящими являются десять разновидностей валунов кварцевых порфиров, в этом качестве также рассматриваются валуны гнейсов, гнейсо-гранитов, ставролитовых сланцев, основных пород, слюдяных сланцев и т.д. Авторами монографии дается подробное описание петрографии пород, приводятся микрофотографии шлифов и цветные фотографии срезов кристаллических пород и валунов. Можно отметить большую ценность фактического материала, изложенного в книге. Но вопрос, насколько справедливы столь дальние корреляции (кроме Прибалтики перечисленные валуны являются руководящими для Белоруссии и Украины) остается открытым. Это относится и к другим широко известным руководящим валунам; шокшинским кварцито-песчаникам, прик-гранитам И.Седерхольма, красным иотнийским песчаникам (Х.Хаузен), нефелиновым сиенитам Хибинского массива. Ряд ученых считает возможным причислить к руководящим и такие валуны, как гнейсы, розовые граниты, кварциты (Д.Б.Орешкин, 1987). Авторы таких руководств и пособий упускают из виду, что комплексы метаморфических, изверженных и осадочно-вулканогенных пород, подобные шведским и финским, развиты не только в восточной части Балтийского щита, но и на Украинском щите, слагают погребенный фундамент Восточно-Европейской платформы. Подробнее данный вопрос будет рассмотрен ниже. Тем не менее, считается твердо установленным, что валуны кристаллических пород на Русской равнине принесены ледником из Фенноскандии. Расстояние этого переноса составляет до 2000 км. В главе “Динамика и геологическая деятельность ледников” показано, что покровные ледниковые щиты не могут перемещать валуны на сколько-нибудь значительное расстояние. Основные причины этого сводятся к следующему: 1. В покровных ледниковых щитах (к которым принято относить и скандинавский ледниковый покров-щит) содержится очень мало обломочного материала, да и то он отмечается только в нижних слоях льда (на участках, где горные вершины или скалистые обрывы выступают из-подо льда, возможна также и поверхностная - осыпная морена). 2. Нижние мореносодержащие слои ледника движутся в несколько раз медленнее, чем вся вышележащая толща льда. Это приводит к тому, что в процессе растекания ледника верхняя и средняя части его разреза постоянно сползают к основанию ледника, упреждая, блокируя возможное продвижение нижних слоев льда. Отсюда малая вероятность масштабного транспорта придонного ледникового транспорта обломочного материала. 3. Нижние слои ледников, имеющих отрицательные температуры льда (под данным давлением) не участвуют в общем движении ледника. Они приморожены к ложу и консервируют его. Примером отсутствия перемещения донноморенного материала является Гренландский ледниковый щит, нижние слои льда которого приморожены к ложу и неподвижны (Фриструп, 1964). 4. Малая прочность льда на сдвиг и разрыв по сравнению с обломочными отложениями, а тем более с кристаллическими породами, не позволяет леднику отрывать и дислоцировать подстилающие породы. В условиях “холодных” ледников приложение напряжения сдвига к границе лед-грунты вызывает скалывание внутри льда, вызывает его движение по внутриледниковым сколам. В “теплых” ледниках движение льда осуществляется или путем послойно-пластической деформации придонных слоев льда - при обтекании им неровностей рельефа или посредством режелации - таянием на проксимальных склонах под повышенным давлением, перетеканием пленки воды и нового ее замерзания (П.А.Шумский, Л.Ллибутри, Дж.Най, У.Кемб, И.Вертман). При таком механизме движения возможно примерзание обломочного материала и его определенное перемещение. Предел перемещения обусловлен степенью насыщения придонных слоев льда обломочным материалом. Вследствие возрастания роли сухого трения насыщенные мореной слои льда отсекаются, “омертвляются” (П.А.Шумский, М.С.Красс, 1983). На большое расстояние могут быть перенесены обломки пород на поверхности ледников - горно-долинных, выводных, а также на покровных при наличии нунатаков. В случае с Европейским ледниковым покровом нунатаки можно представить только в районе Скандинавского нагорья. Однако валунов с этого нагорья на равнинах Европы не известно. Но даже на поверхности ледников перенос обломков пород не бесконечен. Так исследования на леднике Федченко показали, что валуны под действием тяжести и накопления фирна постепенно оказываются в придонных частях ледника (“Ледник Федченко”, 1962), Длина этого ледника, как известно, 71 км, толщина льдов от 250 до 900 м. К проблеме происхождения валунов кристаллических пород на Русской равнине можно подойти и с другой стороны - а именно, проанализировать гранулометрический состав “морен” от Кольского п-ова до Украины. В первую очередь представляет интерес вопрос, как изменялось процентное содержание валунов в “основных моренах” от центральных районов Фенноскандии до низовьев Днепра. Почему, вопреки свойствам, присущим современным ледниковым покровам, четвертичный ледник не только переместил валуны до означенных границ оледенения, но и не “растратил” их на построение морены на тысячекилометровых пространствах. В монографии А.А.Кагана и М.А.Солодухина “Моренные отложения северо-запада СССР” (1971) приведены результаты многочисленных гранулометрических анализов “основных морен” Кольского п-ова, Карелии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Белоруссии. Результаты гранулометрических анализов имеют прямое отношение к рассматриваемой проблеме, поэтому основные результаты этих исследований приводятся ниже (табл.3-5). Как следует из аналитических данных, на Балтийском щите (Кольский полуостров и Карелия), в “морене” содержится от 11 до 25% валунов, причем размеры этих валунов (и глыб) варьируют от 100 мм до 3-4 м в поперечнике (Каган, Солодухин, 1971). В галечной фракции (100-10 мм) содержание обломков кристаллических пород составляет от 10-25%. Таким образом, грубообломочная фракция составляет 21-50% объема “морены”. В то же время на юге Карелии, где кристаллический фундамент перекрыт осадочным чехлом, содержание валунов падает до нуля, и грубообломочная фракция представлена обломками размером 100-10 мм (9-19%). Хотя и нельзя исключить, что небольшой процент валунов в южно-карельской морене все же есть, но они не попали в пробы. Резко уменьшается и сходит почти на нет количество валунного материала в “моренах” Архангельской и Вологодской областей. Фактически валунная фракция в пробах объединена с галечной фракцией (10 мм) и их суммарное содержание составляет около 1% от объема “морены”. Также наблюдается резкое уменьшение крупнообломочного материала в “моренах” Ленинградской, Псковской, Новгородской областей - т.е. непосредственно к югу от Балтийского щита. Здесь валунная фракция (100-10 мм) объединена с галечной и вместе они составляют от 0 до 3% объема “морены”. Валуны имеются и в этих моренах, но в незначительных количествах и практически не попадают в пробы. Незначительное количество валунов “имеется и в “морене” Белоруссии, где только отмечаются их следы, а обломочный материал размером 0.2-1 см содержится в количестве 7%. Однако, в Белоруссии отмечаются участки повышенного содержания валунов кристаллических пород. Более того, в районе г.Полоцка на глубине 60 м встречен горизонт гранитных валунов (глыб) мощностью около 12 м, а в районе Славгорода скопления валунов размером более 1 м образуют залежи мощностью до 3-4 м (Каган, Солодухин, 1971). Приведенные результаты гранулометрических анализов касаются в основном “осташковской” (валдайской) “морены”, имеющей в регионе наибольшее развитие. На Балтийском щите она залегает непосредственно на коренных породах архея и протерозоя. В полосе погруженной части щита (Ленинградская область) по данным А.А.Кагана и М.А.Солодухина “морена” чаще всего тоже залегает непосредственно на коренных - девонских, кембрийских, ордовикских породах. Несколько слоев “морен” выделяется в разрезе гряд, возвышенностей, имеющих чешуйчато-надвиговое строение и в некоторых погребенных долинах. В таких долинах выделяется московская и калининская “морена”. В Белоруссии нередко картируют несколько “моренных” горизонтов - они также преимущественно связаны с чешуйчато-надвиговыми сооружениями. Ряд разрезов “морен” московского и калининского оледенения Архангельской и Вологодской областей также проанализирован. По грансоставу они практически не отличаются от осташковской морены тех же районов (табл.4). Вообще же “нижние морены” - там, где они выделены, имеют тесную связь с подстилающими коренными породами - как в составе крупнообломочного материала, так и мелкоземе (Каган, Солодухин, 1971). Таким образом, осташковская “морена” является вполне репрезентативной для рассмотрения проблемы. Что касается Украины, то там выделяется один “моренный” горизонт, относимый к днепровской эпохе. Содержание крупнообломочного материала в “морене” Украины колеблется в широких пределах - от 0% до 40% (Веклич, 1961). На левобережье Днепра валуны представлены в основном местными осадочными породами и содержатся в небольшом количестве, тогда как в “морене”, лежащей на породах Украинского щита, валуны содержатся в большом количестве, представлены кристаллическими породами, размер отдельных валунов до 18-19 м3 (Заморiй, 1961). По традиции валуны кристаллических пород, входящие в состав “морены” и здесь считаются принесенными ледником из Фенноскандии (Веклич, 1961; Дорофеев, 1965). Таким образом в распределении крупнообломочного материала, в процентном его содержании в “морене” на пространстве от Балтийского до Украинского щита наблюдаются следующие закономерности. На Кольском п-ове и Карелии количество крупнообломочного материала “в морене” составляет 21-50%, а в областях, лежащих непосредственно южнее Балтийского щита (Ленинградская, Псковская, Новгородская, а также Архангельская и Вологодская области) в составе крупнообломочного материала преобладают местные осадочные породы, а общее количество - 0-3%. В “морене” Белоруссии наблюдается некоторое увеличение количества крупнообломочного материала. Причем, в районе Белорусско-Литовского выступа фундамента наблюдаются скопления крупнообломочного материала гранитно-гнейсового состава. Заметно возрастание валунного материала в “морене”, перекрывающей породы Украинского кристаллического щита. При этом мелкоземистая часть “морены” - будь то Кольский п-ов, Ленинградская область или Белоруссия, в основном состоит из местного материала. Подобные закономерности распределения валунов в “морене” кажутся парадоксальными. Почему валунно-глыбовая “морена” Балтийского щита на погребенных склонах этого щита и далее на плите резко сменяется на маловалунную и практически безвалунную. Казалось бы далее к югу количество валунов должно вообще сойти на нет, однако через сотни километров в Белоруссии содержание валунного материала и его размеры в той же осташковской “морене” увеличиваются. Крайне низкий процент грубообломочного материала в “морене” непосредственно южнее Балтийского щита обуславливает и малую вероятность “удерживания” фенноскандинавских валунов в теле ледника с тем, чтобы перенести их до предусмотренных границ оледенения. Напомним, что еще К.К.Марков и И.П.Герасимов отмечали, что уже в Ленинградской области (а тогда в нее входили и нынешние Псковская и Новгородская области) морена уже по существу сложена местным материалом. Так в районах, где коренные породы представлены синими кембрийскими глинами, морена глинистая, сизого цвета; южнее глинта в полосе развития силурийских известняков морена щебенчатая, очень карбонатная (известняковый рихк). В поле девонских красноцветных песчаников - морена песчанистая, красноцветная (Герасимов и Марков, 1939). Изложенные данные по грансоставу “морены” на пространстве от Кольского п-ова до Белоруссии вкупе с данными о тесной связи обломочного материала “морен” Балтийского щита и Русской равнины с местными породами показывают, что хрестоматийные представления о тысячекилометровом ледниковом переносе валунов нуждаются в пересмотре.
4.11. Состав валунов и их коренные источники Для изучения проблемы генезиса валунных отложений важным является изучение петрографического состава валунов. Отметим сразу, что часть валунов в регионах, подвергавшихся плейстоценовым морским трансгрессиям (а это низменные районы Кольского п-ова, Карелии, Прибалтики, Европейского Севера и Западной Сибири) имеет дрифтовое происхождение. В этих районах сформировались ледово-морские (и морские) отложения, описанные в работах И.Д.Данилова, А.И.Попова, И.Л.Кузина, Р.Б.Крапивнера, В.В.Филиппова, Б.Л.Афанасьева и многих других исследователей. При формировании валунных ледово-морских суглинков валуны преимущественно разносились припайными льдами (в Белом море дальность разноса валунов припайными льдами многие десятки километров, а в Охотском и Беринговом море 500 и более километров). Но это только часть разреза плейстоцена и даже в районах морских трансгрессий имеются валунные образования континентального происхождения. Это тем более справедливо для районов, где морские трансгрессии не имели места и где проблема генезиса валунов не может быть решена в рамках дрифтовой теории.
Мурманская область и Карелия. Грансостав моренных песков и супесей (естественной смеси) (валдайская морена) (по А.А.Кагану и М.А.Солодухину, 1971)
Таблица 4 Архангельская и Вологодская области. Гранулометрический состав валунных суглинков (по А.А.Кагану и М.А.Солодухину (1971)
Таблица 5 Грансостав моренных суглинков (осташковская морена). Погруженный склон Балтийского щита (Юг Карелии, Ленинградская, Псковская, Новгородская области, север Белоруссии) (по А.А.Кагану и М.А.Солодухину, 1971)
Выше перечислялись некоторые группы руководящих валунов, коренной источник которых связывается с породами Балтийского щита. Но сторонники ледникового транспорта валунов упускают из виду, что Балтийский щит - это часть Восточно-Европейской платформы, и что, как указывает Е.В.Хаин (1977), фундамент Русской плиты сложен метаморфическими и интрузивными породами архея, нижнего и среднего протерозоя, в основном тем же комплексом пород, что и Балтийский щит (рис.87). Много общего наблюдается в тектоническом и неотектоническом строении Балтийского щита и северной половины Русской плиты, а также Украинского щита и Воронежского массива. Поэтому, прежде чем перемещать валуны из Фенноскандии за тысячи километров, следует поставить вопрос - а не являются ли коренными источниками этих валунов породы фундамента, лежащие всего лишь в десятках или сотнях метров ниже? Не подняты ли по разломам - в виде приразломных блоков и клиньев, коренные породы, давшие при своем распаде тот крупнообломочный материал, который считается ледниковым. Принципиальная возможность такого процесса и основы его механизма рассмотрены в разделах главы 3. Здесь отметим, что осадочный чехол платформы не только сильно изменчив по мощности, но и нередко представлен такими компетентными породами как известняки, глинистые сланцы, песчаники и т.д. Передача тектонических напряжений и разрывно-дислокационный процесс в подобных породах в принципиальном плане может происходить аналогично таковому в метаморфических породах щита. Примеры выведения фрагментов пород фундамента на поверхность сквозь осадочный чехол были приведены особо (см. разд.3.7-3.8). Вначале представляется необходимым привести доказательства участия в строении фундамента Русской платформы пород, которые принято считать материнскими для руководящих валунов.
Граниты-рапакиви Валуны гранитов-рапакиви являются наиболее известными и наиболее распространенными руководящими валунами от Прибалтики до низовьев Дона и Днепра. Коренными источниками этих “ледниковых” валунов принято считать следующие массивы: Выборгский, Салминский (восточное Приладожье), Лейтила, Вихмаа, (Финляндия), Аландские острова, ряд массивов в Швеции - Родо, Рагунда, Ангерманланд, Евле, массивы в районе Даларна (Х.Вийдинг и др., 1971). Рассматривая перечисленные массивы в качестве коренных источников руководящих валунов и строя соответствующие веера рассеивания валунов, геологи-четвертичники и географы не упоминают, что ряд массивов гранитов-рапакиви закартирован в восточной части Балтийского щита (Умбинский, Лицевские массивы, Арагубский, Бол.Урагубский, Свирский, Ведлозерский и др.) а также, что еще важнее, на Русской плите. Здесь закартированы следующие массивы гранитов-рапакиви: Рижский (Курземский), Лужский, Белозерский, Иванцевичский, Кентшинский и Сувалкский (Польша). На Украинском щите известно два крупных массива гранитов-рапакиви - Коростенский и Корсунь-Новомировский, а в районе Воронежского выступа - несколько массивов, из которых наиболее известны Павловский, Лисинский, Ольховский. Четыре небольших массива рапакиви закартировано в Эстонии: Эредаский, Нээмеский, Найсаарский, Марьямааский (рис.88). Многолетние исследования массивов рапакиви, проведенные В.З.Левковским, сопоставление их вещественного состава, внутреннего строения и возраста, позволили ему прийти к выводу, что массивы рапакиви Балтийского щита и Восточно-Европейской платформы принадлежат к единой среднепротерозойской интрузивной формации (В.З.Левковский, “Рапакиви”, 1975). Близкие взгляды развиваются и другими исследователями (“Кристаллический фундамент Эстонии”, 1980; “Докембрий Русской платформы....”, 1974). Граниты-рапакиви ассоциируют с такими комплексами пород как гранодиориты, сиенито-диориты, диориты, анортозиты. Объем собственно гранитов-рапакиви в интрузивных массивах меняется в широких пределах. Некоторые массивы почти нацело сложены рапакиви (Выборгский, Салминский массивы) в других (Рижский, Лужский, Коростенский, Корсунь-Новомировский) породы комплекса рапакиви занимают примерно 60-80% площади массивов. Характерной чертой петрографии рапакиви является наличие в основной массе породы мегакристаллов (овоидов) калиевого полевого шпата. Нередко эти овоиды имеют плагиоклазовую оболочку. Количество и размеры овоидов калиевого полевого шпата довольно изменчивы в разных частях массивов. Выделяются массивы как с преобладающим развитием крупноовоидных полевых шпатов, так и с преобладанием мелких порфиробластов. Но в целом граниты формации рапакиви имеют между собой большое сходство по микроструктурным особенностям, минералогическому составу главных породообразующих и акцессорных минералов. Валунный материал, происходящий за счет разрушения коренных выходов гранитов-рапакиви, также различается по количеству и размеру овоидов - порфиробласт полевого шпата. Но поскольку разные части одного и того же массива, сложены разными типами рапакиви, то эти различия могут касаться только количества валунов с теми или иными размерами порфиробласт или их количества на единицу площади породы. Опыт изучения автором массивов рапакиви на Кольском п-ове (Умбинский и Лицевский массивы) и в южной части Балтийского щита (Выборгский массив) позволяют придти к следующим выводам: 1. Граниты рапакиви указанных массивов сходны между собой по текстуре, структуре и вещественному составу. 2. Количество и размеры порфиробластов калиевого полевого шпата в гранитах-рапакиви этих массивов изменяются в широких пределах. В Выборгском массиве в целом преобладают крупные порфиробласты, размером 2-2.5 см в поперечнике, но в периферических частях массива размеры мегакристаллов уменьшаются до 1-1.5 см (и меньше). Уменьшается и густота распределения кристаллов в основной гранитной массе. В Умбинском и Лицевском массивах граниты-рапакиви с порфиробластами калиевого полевого шпата размером 2-2.5 см занимают сравнительно небольшие площади, преобладают кристаллы размером 1.5 см. Во всех трех массивах отмечаются рапакиви как с порфиробластами калиевого полевого шпата, с каемками из плагиоклаза, так и без оных. В последнем случае такие граниты относятся к группе питерлитов. Валуны питерлитов также принято относить к руководящим и непременно привязывать к Выборгскому массиву. Можно отметить, что питерлиты (помимо рапакиви - выборгитов) участвуют в строении крупнейшего на Русской платформе Рижского массива. Некоторые исследователи (П.К.Заморий, Л.М.Дорофеев) для доказательства ледникового приноса валунов рапакиви на Украину ссылаются на исследования В.М.Чирвинского, писавшего, что на правобережной Украине “Дуже часто встречаются валуны выборгского рапакиви”, и указывают, что валуны гранитов-рапакиви Украины имеют химсостав, близкий к гранитам-рапакиви Балтийского щита. Не оспаривая указание В.М.Чирвинского о частой встречаемости валунов рапакиви на правобережной Украине (где известно два крупных массива комплекса рапакиви), несколько подробнее остановимся на химсоставе рапакиви. Главным показателем петрохимической характеристики гранитов-рапакиви является зависимость между общей железистостью пород и соотношением щелочей. Изучение химизма массивов рапакиви Балтийского, Онежско-Ботнического и Южно-Русского кратонов, выполненное рядом авторов, показывает, что в разных частях одних и тех же массивов наблюдается довольно широкий диапазон железистости, изменяются и соотношения К2О над Nа2О (Левковский, 1975). Например, граниты-рапакиви Коростенского и Корсунь-Новомировского массивов характеризуются некоторым преобладанием К2О над Nа2О и повышенной железистостью. В этом плане они весьма близки к массивам рапакиви Онежско-Ботнического кратона - Выборгскому, Сальминскому, Вехмаа, но отличаются от массивов Балтийского кратона. Последним, как правило, присуще преобладание Nа2О над К2О и умеренная железистость (Левковский, 1975). Что касается соотношения радиоактивных изотопов стронция, то они тоже изменчивы от массива к массиву (и его отдельных частей), В отношении же рассматриваемых массивов и Выборгского массива соотношения стронция практически идентичны: соответственно 0.703-0.704 и 0.704 (Биркис, Пурра, 1982). Таким образом, достаточных оснований распознавать массивы рапакиви по химсоставу валунов не имеется. Это не значит, что нельзя в первом приближении наметить коренные источники валунов рапакиви, но для этого необходимо массовое изучение химизма валунов и коренных выходов (или керна скважин) конкретного района, сопоставление петрологии и петрохимии тех и других. Такие работы к настоящему времени не выполнены. К руководящим валунам первой степени важности принято относить и валуны кварцевых порфиров. Считается, что эти валуны ледник приносил в Прибалтику и на Русскую равнину со дна Балтийского моря, с о.Хогланд (Суурсаари) и из Швеции (кварцевые порфиры Рагунды, Ально, Даларна) (Вийдинг и др., 1971; Орешкин, 1982). Между тем, помимо Балтийского щита, кварцевые порфиры закартированы в фундаменте Русской плиты - примерно в тех же районах, где распространены валуны кварцевых порфиров. Эти породы чаще всего развиты в ассоциации с осадочно-вулканогенными образованиями хогландской серии среднего протерозоя и рассматриваются в качестве эффузивных аналогов гранитов-рапакиви. Эти группы пород имеют и пространственную общность. В Прибалтике кварцевые порфиры хогландской серии приурочены к периферической части Рижского массива рапакиви. Коренные выходы кварцевых порфиров установлены также на о.Саарема (Эстония), где описаны плагиоклазовые порфиры, в том числе буровато-красные и розовые - того же типа, что и предполагаемые на дне Балтийского моря (Кристаллический фундамент Эстонии, 1982). Кварцевые порфиры входят в состав эффузивных покровов збранковской свиты на Украине, где они пространственно приурочены к Коростенскому массиву (Левковский, 1975). В магматических комплексах Украины кварцевые порфиры развиты широко в виде дайковых образований (Усенко и др., 1982). Известны кварцевые порфиры в разрезе тунгудско-надвоицкой серии среднего протерозоя Карелии, Кольского п-ова (Куолоярвинская структура) в районе Воронежского выступа (старооскольская серия) (Докембрий Русской платформы..., 1974). Многие геологи объединяют хогладскую серию с суйсарской в Карело-Кольском регионе (Гилярова, 1987). Поэтому нет необходимости непременно связывать валуны кварцевых порфиров на Русской равнине с их предполагаемыми источниками на дне Балтийского моря и в Швеции, с их ледниковым разносом. К руководящим валунам первой категории принято относить кварцито-песчаники с малиновой, красной, малиново-красной и фиолетовой окраской. Коренным источником этих валунов считаются кварцито-песчаники шокшинской свиты Прионежья. Эта свита относится к среднему протерозою и представлена кварцито-песчаниками розового, малинового, реже фиолетового цвета, переслаивающимися с красными песчаниками. Валуны кварцито-песчаников (фактически обломки галечно-гравийной размерности) розовой, малиново-красной и фиолетовой окраски отмечаются в “моренах” Белоруссии, Украины, Воронежской области, на п-ове Канин, на о.Валаам, в Ленинградской и Вологодской областях (Геология четвертичных отложений..., 1967; Васильев, 1969). Имеются ли толщи кварцито-песчаников типа шокшинской свиты на Русской платформе? По материалам работы “Докембрий Русской платформы и ее складчатого обрамления” (1974) такие кварцито-песчаники известны во многих районах. Они также выделены в шокшинскую свиту петрозаводско-шокшинской серии среднего протерозоя и ее аналоги. На Украине малиново-красные кварцито-песчаники входят в состав толкачевской свиты овручской серии. Они залегают на гранитах-рапакиви Коростенского плутона и достигают мощности 1000 м. Карельские структуры Балтийского щита (а в их составе образования петрозаводско-шокшинской серии) по данным геофизики и бурения фрагментарно прослеживаются под осадочным чехлом далеко к югу от щита - почти до Среднерусской возвышенности. Красные песчаники и кварцито-песчаники типа шокшинских вскрыты бурением в районе Крестцов. По этим же данным толща красноцветных песчаников и кварцито-песчаников, сходных с породами шокшинской свиты, закартирована на юго-восточном склоне Воронежского выступа. Кварцито-песчаники, относимые к петрозаводско-шокшинской серии и ее аналогам, выявлены также на северо-востоке Польши. Близкие по литологии кварцито-песчаники входят также в состав рифейского структурного этажа Русской платформы. Образования рифея в основном выполняют узкие прогибы (авлокогены) в фундаменте. Так в Пачелмском грабенообразном прогибе вскрыты кварцитовидные песчаники розовой окраски, в зоне Волыно-Оршанского прогиба красноцветные и вишневые песчаники, а в восточном обрамлении Русской платформы выявлены красноцветные кварциты “по внешнему облику и мономиктовому составу не отличимые от шокшинских кварцитов карельского комплекса” (Корреляция докембрия, 1977). Стремление непременно связывать валуны (гальки) кварцито-песчаников розового, вишневого, красного и фиолетового цвета с шокшинскими кварцито-песчаниками Прионежья приводит к тому, что, например, для объяснения упомянутых выше находок обломков таких пород на п-ове Канин необходимо двигать ледник от Онежского озера на северо-восток, что не согласуется ни с одной из многочисленных схем движения скандинавского ледникового покрова. В качестве важных руководящих валунов принято также рассматривать валуны нефелиновых сиенитов, коренным источником которых считается Хибинский щелочной массив. Имеются указания, что валуны нефелиновых сиенитов разносились в юго-восточном направлении вплоть до Тимана, а в северо-восточном - до берегов Баренцева моря. Действительно, юго-восточный ореол нефелиновых сиенитов обширен, но связан он с деятельностью морских припайных льдов, разносивших валуны во время беломорской и, отчасти, бореальной трансгрессии верхнего плейстоцена (Чувардинский, 1982, 1985). Что касается находок валунов нефелиновых сиенитов на берегах Баренцева моря (на что принято ссылаться на В.Рамсея), то наши исследования не подтверждают этой версии. Кроме того, внутри Хибинского массива имеются валунные шлейфы хибинских пород, в том числе апатитовых руд, связанные с разломно-тектоническим перемещением блоков пород. В ассоциации с валунами Хибинского массива находятся валуны Ловозерского щелочного массива (луявриты, фойяиты, уртиты, нефелиновые сиениты). Но о наличии таких валунов за пределами Кольского п-ова в литературе почти не имеется упоминаний, хотя их ореол не менее обширен, чем хибинский. С другой стороны, непременная привязка валунов нефелиновых сиенитов к Хибинскому (или Ловозерскому) массиву может привести к ошибкам. Дело в том, что нефелиновые сиениты участвуют в строении не только упомянутых массивов, но и щелочно-ультраосновных массивов, которых на Кольском п-ове насчитывается почти два десятка. Закартированы такие массивы в Карелии и других местах Балтийского щита. Щелочные и щелочно-ультраосновные массивы, в строении которых принимают участие нефелиновые сиениты (а также ийолиты, мельтейгиты, карбонатиты) известны и на Украине (массивы Октябрьский, Малотерсянский, Проскуровский) (Усенко и др., 1982). Нет оснований считать, что подобные массивы не могут быть выявлены и в других районах Русской плиты. Поэтому обнаружение Р.В.Кабановой и В.А.Романовым (1972) в “морене” Курской области (в долине среднего течения р.Сейм) валунов нефелиновых сиенитов не дает основания привычно прибегать к деятельности ледника, объяснять их перенос покровным ледником с Хибинского массива. Не касаясь самой возможности перемещения покровным ледником валунов за 2000 км (этот вопрос рассмотрен в разделе 1.1), отметим, что хибино-курский конус разноса валунов нефелиновых сиенитов не согласуется с действительным ореолом разноса этих валунов и противоречит всем известным схемам “ледниковых вееров” на Русской равнине. Возникает и еще один вопрос. Р.В.Кабанова и В.А.Романов, обосновывая проникновение ледника в глубь Курской области описывают морену как желтый неслоистый суглинок мощностью 0.5-0.89 м, содержащий валуны нефелиновых сиенитов. Поскольку о наличии валунов или гальки какого-либо другого состава не упоминается, приходится допускать, что ледник захватил на Балтийском щите и переместил в Курскую область только валуны нефелиновых сиенитов (сведений о находках валунов этого состава на пространстве от Карелии до бассейна р.Сейм в научных публикациях обнаружить не удалось). Не слишком ли сложен и необычайно противоречив ледниковый механизм избирательного перемещения этих валунов? Не проще ли допустить, что валуны (первоначально в виде блоков или тектонической брекчии) были подняты по разломам сквозь платформенный чехол и, что искомый массив щелочных пород находится вблизи находок валунов на глубине в первые сотни метров? В качестве руководящих валунов принято рассматривать также валуны гранитного состава, причем считается, что они непременно принесены ледником из Финляндии и Швеции (Х.Вийдинг и др., 1971). К ним относят валуны серого и плагиоклазового гранита (нистад-граниты), порфировидные микроклиновые граниты (парние-граниты), серые грубозернистые граниты (ровсунд-граниты), средне-мелкозернистые красные граниты (родо-гранит), крупнозернистые биотитовые граниты (рогунда-граниты), биотитовые среднезернистые граниты (стокгольм-граниты), среднезернистые красно-серые граниты (упсала-гранит) и целый ряд подобных гранитов (Х.Вийдинг и др., 1971). Перечисленные граниты относятся к группе широкораспространенных интрузивных и метаморфических пород, которые помимо Швеции и Финляндии имеют широкое развитие в Карело-Кольском регионе. На площади погребенной части Русской платформы граниты и гранитоиды образуют несколько массивов и крупных полей: массивы Новгородский, Онего-Двинский, Белорусский, Палангский (Литовский), Тамбовский, Брянский, Воронежский, на Украине - Житомирский массив и т.д. (Докембрий Русской платформы .., 1974). Опыт валунных поисков в Карело-Кольском регионе показывает, что валуны микроклиновых, плагиоклазовых, биотитовых и других подобных гранитов могут рассматриваться в качестве локальных руководящих валунов, когда их шлейф непрерывно прослеживается непосредственно от конкретного гранитного массива или небольшого поля развития гранитоидов. Не случайно некоторые сторонники великих оледенений возражают против использования пород гранитного состава в качестве руководящих валунов дальнего разноса. Так, П.М.Дорофеев (1965) пишет: “На Украине принадлежность пород к коренным источникам часто определяется местным названием (например, стокгольм-гранит, упсала-гранит, рапакиви-выборгит, прик-гранит). Несостоятельность наименования валунов изверженных пород по местным названиям очевидна”. На идентичность валунов, гранитов, считаемых фенноскандинавскими, и местных гранитов указывал известный исследователь Украинского щита В.С.Соболев (1947). Он, например, писал, что розовые коростенские граниты являются эквивалентом руководящих прик-гранитов И.Седерхольма. Что касается таких валунов как двуслюдяные гнейсы, гранито-гнейсы, диабазы, мандельштейны, ставролитовые слюдяные сланцы, выделенные Х.Вийдингом и соавторами (1971) в качестве руководящих, то эти породы имеют широкое развитие и участвуют в строении фундамента Русской плиты и восточной части Балтийского щита. В частности “руководящие” ойе-диабазы Швеции являются аналогами суйсарских диабазов Карелии (Гилярова, 1987). Популяризаторы науки в качестве особо важных руководящих валунов выделяют уралитовые порфириты, коренным источником которых непременно считается местечко Таммела в Финляндии (Орешкин, 1983, 1987). Минерал уралит представляет собой псевдоморфозы амфибола по пироксену (близок к тремолиту и актинолиту), в качестве акцессорного и породообразующего минерала распространен в комплексах эффузивных пород Балтийского щита. Поэтому совершенно правы Х.Вийдинг с соавторами (1971), когда пишут, что “применение уралитовых порфиритов в качестве руководящих валунов оказалось не надежным”. По-видимому такой же вывод правомерен и для обломков янтаря, находки которого в “ледниковых” отложениях Украины долгое время трактовали как доказательство продвижения южно-балтийской ледниковой лопасти до Украины и ледникового переноса янтаря из Прибалтики. Но недавно было установлено, что он может иметь местное происхождение: россыпи янтаря выявлены в палеогеновых и неогеновых отложениях Украинского Полесья (Мацуй, Савронь, 1985). Ледниковый транспорт янтаря за сотни километров отпадает и по причине его крайне хрупкости, неспособности выдержать не только ледниковый “все перемалывающий”, но и значительный речной перенос. Согласно работе Х.Вийдинга и др. (1971) основной поток руководящих ледниковых валунов происходил из Центрального (шведского) сектора Балтийского щита (из 71 разновидности руководящих валунов с территории Балтийского щита и дна Балтийского моря на Швецию приходится 27 разновидностей руководящих валунов). На большой удельный вес шведских пород в ледниково-валунном сносе на Русскую равнину указывали еще в начале века Х.Хаузен и В.Н.Чирвинский. Если это так, то среди 27 разновидностей шведских руководящих валунов должны быть представлены и другие породы, слагающие кристаллический фундамент Швеции. Причем, количество таких валунов должно быть примерно адекватным площади их развития. В этом плане полезно рассмотреть породы лептитовой формации раннего свекофения, слагающие кристаллический фундамент Средней Швеции на площади порядка 20000 км2 (Докембрий Скандинавии, 1967). Лептитовая формация Средней Швеции представлена кислыми вулканитами, переслаивающимися с карбонатными и железорудными прослоями. Кислые вулканиты в соответствии со степенью их метаморфизма подразделяются на геллефлинты (кремнистые породы) и лептиты. Наибольшее развитие имеют лептиты. Важной составной частью лептитов являются частые прослои и пласты железных руд - тонкополосчатых гематитовых кварцитов. В контуре площади развития пород лептитовой формации и на смежной территории расположены массивы и поля упсала-гранитов, сала-порфиров и стокгольм-гранитов, даларнские и сильян-граниты, многочисленные разновидности порфиров и диабазов. Именно валуны этих разновидностей пород пользуются на территории Прибалтики наибольшим распространением (Х.Вийдинг и др., 1971). На этом фоне загадочно выглядит отсутствие валунов лептитовой формации в “моренах” Прибалтики. Данных о находках таких валунов не имеется в фундаментальной сводке “Кристаллические руководящие валуны Прибалтики”, не выявлено таких сведений и в многочисленных статьях по вещественному составу “морен” Прибалтики. Породы лептитовой формации, такие как лептиты, геллефлинты, кварцево-гематитовые полосчатые руды обладают свойствами руководящих пород - имеют присущие только им черты литолого-петрографического строения, к тому же часть этих пород этой формации относится к железорудным. Поэтому отсутствие валунов лептитов, геллефлинтов, полосчатых гематитовых руд в “моренах” Эстонии, Латвии, Литвы вызывают сомнение в правильности отнесения валунов гранитов, порфиров, диабазов и многочисленных других руководящих валунов непременно к шведским. Этот вопрос требует непредвзятого изучения. При этом должен рассматриваться и вероятный встречный перенос припайными льдами, с одного берега Балтийского моря на другой, определенной части шведских и прибалтийских валунов. Особое значение для рассмотрения вопроса о ледниковом переносе валунов из Фенноскандии на Русскую равнину имеют породы спарагмитовой и варяжской формации позднего докембрия (эокембрия). Породы этих формаций развиты на большой территории вдоль восточного контакта с зоной каледонид, занимая западные возвышенные районы Швеции и соседней Норвегии (Докембрий Скандинавии, 1967). Породы спарагмитовой и варяжской формации эокембрия могут рассматриваться в качестве руководящих по следующим причинам: они слагают локальные (хотя и обширные) территории и не известны в других районах “области скандинавского ледникового покрова”. Спарагмитовая формация представлена толщей полевошпатовых песчаников, переслаивающихся со сланцами и карбонатными породами, в том числе красноцветными. В базальных частях толщи залегают тиллиты, конгломераты и ленточные сланцы. Мощность толщи спарагмитов более 1500 м (Докембрий Скандинавии, 1967; У.Хольтедаль, 1957). Породы варяжской формации, налегающие на спарагмитовую, представлены главным образом, кварцитами, но ее базальным компонентом также являются тиллиты и ленточные сланцы. Мощность тиллитов и конгломератов до 100 м, ленточных сланцев - десятки метров (Хольтедаль, 1957; Докембрий Скандинавии, 1967). Валуны пород спарагмитовой и варяжской формации хорошо диагносцируются - в первую очередь в качестве руководящих выделяются валуны тиллитов, конгломератов, ленточных сланцев, а также песчаников с прослоями известняков и доломитов. По данным У.Хольтедаля (1957) перенос валунов спарагмитовой и варяжской формации составляет порядка 6-7 км. Перенос на такие же расстояния обычен и для валунов других пород юго-западной части Фенноскандии. Так подсчеты процентного соотношения в “морене” валунов разного состава в провинции Нордмарк (Норвегия) в зоне контакта осадочных пород кембрия с комплексом изверженных щелочных сиенитов и щелочных гранитов дали следующие результаты: изверженные породы составили 51% от общего количества валунов, кембрийские сланцы, песчаники и роговики - 29%, породы архейского фундамента (гнейсы, гранито-гнейсы) - 13%, валуны спарагмитовой и варежской формации - 7%. В том же Нордмарке в “морене”, лежащей на изверженных щелочных породах, содержание валунов щелочных пород составило 90%, валунов кембрийских пород - 3%, архейских гнейсов и гнейсо-гранитов - 3%, спарагмитов -4% (Хольтедаль, 1957). Полоса развития пород спарагмитовой и варяжской формации расположена в 6-7 км к северу от участка исследований. Что касается разноса валунного материала в Швеции, он тоже был сравнительно небольшим. На это указывает и резкое преобладание (до 90-100%) в “моренах” Швеции валунов местных кристаллических пород (Daniel, 1986; Hillden, 1984). Таким образом, расстояние переноса валунов спарагмитовой формации достаточно обычно и сопоставимо с расстоянием переноса валунов архейских, протерозойских и палеозойских пород. Столь подробное описание пород спарагмитовой, варяжской, а также лептитовой формаций предваряет следующий вопрос: почему валуны пород этих формаций не обнаружены в “моренах” Прибалтики, где, как это указывается в многочисленных публикациях, столь полно и в большом количестве представлены валуны всех других главных и второстепенных руководящих пород, местоположение которых находится в тех же районах Швеции, что и отсутствующие валуны пород упомянутых формаций. Это тем более загадочно, что рассматриваемый район принято относиться к центрально-ледниковой зоне, где ледниковая экзарация имеет классическое проявление. В учебнике “Основы геологии” проф. В.Д.Панников прямо указывает: “Спускаясь со Скандинавских гор ледник разрушал их, отламывал куски скал, сглаживая и выпахивая по пути Балтийский кристаллический щит” (Панников, 1961, стр.276). Развивая эти идеи, проф. И.В.Попов в книге “Загадки речного русла” (1977) утверждает, что “ледник снес со Скандинавии 500-700 тысяч кубических километров горных пород и это привело к снижению Скандинавских гор на 500-600 м” (стр.66). В связи с таким достаточно традиционным выводом И.В.Попова, стоит обратить внимание на отсутствие в “моренах” Прибалтики и Русской равнины не только валунов спарагмитовой формации, но и валунов палеозойских пород, слагающих “полуснесенное ледником” Скандинавское нагорье. Но парадокс не только в этом. Срезав со Скандинавии слой коренных пород толщиной 500-600 м, ледник весьма избирательно захватывал и перемещал только валуны, за которыми в публикациях геологов-четвертичников закреплен статус руководящих. Причины видимо не в номенклатурной иерархии, а в том, что породы, представляющие “руководящие” валуны, участвуют в строении фундамента прибалтийского сегмента Русской плиты. И, наоборот, отсутствующие в “моренах” Прибалтики породы спарагмитовой, лептитовой и других формаций, не имеют аналогов ни в фундаменте, ни в чехле этой части платформы. Уже упоминалось, что в ряде районов отмечаются валуны, перемещение которых необъяснимо с позиций их ледникового разноса. В качестве дополнительного примера можно привести известную проблему валунов андезито-дацитов Днепровско-Донецкой впадины, которые “неправильно”, с точки зрения их ледникового транспорта, разнесены от коренного источника с юго-востока на северо-запад (Радзивилл, Куделя, 1976). Этот “неправильный” перенос может быть объяснен перемещением приразломных блоков и тектонической брекчии андезито-дацитов вдоль левых сдвигов из района развития этих пород - Болтышской и Ильинецкой вулканоструктур. В 1964 году в № 5 журнала “Природа” Ю.М.Устюгов опубликовал заметку о находке валуна каменной соли в “морене” Кировской области. Впоследствии валуны галитов были найдены в “моренах” Белоруссии и в Прибалтике, но первая находка стала хрестоматийной и играла большую роль в дискуссии о ледово-морском генезисе валунных суглинков на Европейском Севере и Западной Сибири. Сторонники великих оледенений постоянно приводили в пример указанный валун и уверяли, что ни о какой дрифтовой теории не может идти и речи, так как валун галита непременно растворится в морской воде. Аргумент справедливый, равно справедливо и обратное - в ледниковой воде, которой при таянии ледника должно быть в избытке, галитовые валуны тоже не сохранятся. Учитывая, что на поверхность залежи каменной соли не выходят ни в Кировской области, ни в Белоруссии и Прибалтике, появление валунов галитов в четвертичных отложениях можно объяснить или процессами соляного диапиризма, или разломной тектоникой - выведением по взбросо-надвигам пластов каменной соли к дневной поверхности. В четвертичных отложениях Беларуси в контуре девонского поля выявлено большое количество глыб меловых пород, коренное залегание которых находится южнее (Левков, 1980). Для их ледниковой транспортировки требуется движение ледника с юга на север (или на северо-восток). Принятие точки зрения о вдольразломном перемещении чешуй мела по сдвигам северо-восточного простирания снимет необходимость такого ледникового “поворота”. Важные закономерности по связи россыпного золота в четвертичных отложениях с золотоносными металлогеническими зонами кристаллического фундамента Беларуси приводятся Ю.А.Деревянкиным (1994). На основании типохимического изучения золота и его пробности из разных шлихозолотоносных провинций Беларуси было выделено пять групп россыпного золота: 1) высокопробное золото; 2) высокопробное медистое золото; 3) золото средней пробы, серебристое, иногда медистое; 4) золото средней-низкой пробы, высокосеребристое, содержащее ртуть, медь, электрум; 5) амальгама золота-серебра. Анализ распределения в Беларуси разных типов золота позволил выделить несколько золото-шлиховых провинций (Деревянкин, 1994). Золото первой и второй групп (высокопробное, слабо медистое) характерно для северной части Беларуси. В центре Беларуси в полосе Минской возвышенности золото низкопробное медисто-серебристое, со значительным содержанием ртути (третья-четвертая группа золота). В южной геоморфологической области установлено развитие золота пятой группы - амальгама серебра-золота в смеси со второй и третьей группами. По заключению Ю.А.Деревянкина шлиховое золото имеет полигенные коренные источники, но все они связаны с определенными золотосодержащими металлогеническими зонами кристаллического фундамента Беларуси. Наиболее хорошо эта связь устанавливается с погребенным Белорусским кристаллическим массивом (медисто-серебристое золото с примесью ртути), а также с зоной активизации Микашевичко-Житковичского горста (южная область), где золото (амальгама золота-серебра) связано с металлогенической зоной в пределах этого горста. По данным “Беларусьгеологии” золото в породах кристаллического фундамента Беларуси в количестве до 2 г/т установлено в ряде металлогенических зон, но везде залегает под платформенным чехлом мощностью порядка 500-800 м (Ф.С.Азаренко и др., 1994, “Литосфера”, № 1, 1994). Оно достаточно хорошо коррелируется с золотом в четвертичных отложениях. В промежуточных коллекторах (докайнозойском чехле) золото не обнаружено. Каким образом золото с глубин в несколько сот метров попало в четветичные отложения, в том числе и “морену”, ледниковая теория не объясняет. Вместе с тем, принятие механизма о выведении золотосодержащих тектонических брекчий на поверхность по взбросам и взбросо-сдвигам решает и этот вопрос. Выведенные на поверхность золотосодержащие брекчированные массы (вместе с валунами и глыбами кристаллических пород), размывались, переотлагались - с участием оползневых и солифлюкционных процессов, включались в состав четвертичных отложений. Что касается промежуточных коллекторов, то они должны быть. Поиск их следует вести в зонах активизированных разломов, по которым золотосодержащие тектонические брекчии выводились на поверхность, и шовная зона которых выполнена этими брекчиями. Содержание золота в непереотложенных брекчиях должно быть существенно выше, чем в четвертичных отложениях. Упоминавшийся горизонт гранитных глыб и валунов мощностью 12 м, подсеченный скважинами на глубине 60 м в районе г.Полоцка, и скопление валунов кристаллических пород в разрезе осадочного чехла в районе Славгорода (Каган, Солодухин, 1971), по-видимому, являются тектоническими брекчиями пород фундамента и выполняют шовную зону разломов. Для понимания происхождения эрратических валунов представляет интерес статья “Безморенные области” (Н.И.Кригер и др., 1985) в которой констатируется, что бассейн Нижней Оки представляет собой безморенную область - территорию, на которой развиты покровные субаэральные суглинки лежащие на пермских отложениях. В бассейне рек Мокша и Теша, а также в районе Мурома авторами публикации морена выделяется, но “она имеет характер локальной морены”, состоящий из материала татарских отложений перми. По существу эта ”морена”, как и субаэральные безморенные суглинки Нижней Оки, представляет собой делювиальные образования, сформировавшиеся за счет переотложения выветрелой части подстилающих пермских отложений. Но далеко к югу - на южной границе донского ледникового языка валуны кристаллических пород - граниты, гнейсы, габброиды и др. - явление обычное, причем некоторые достигают больших размеров - до 1.5-2 м3 (М.С.Цыганов, 1969). Итак, при своем неодолимом движении на юг ледник каким-то образом “перешагнул” через расстилавшуюся на его пути Приокскую равнину, оставив ее в первозданном (безморенном) виде. И только, войдя в область донского ледникового языка, ледник рассеял фенноскандинавские валуны. И не просто рассеял, а распределил избирательно. Ю.Ф.Дурнев и В.С.Аграновский (1985) в области донского языка выделили два типа морены - красную с валунами кислых пород (гранитного и гнейсового состава) и серую морену, эрратические валуны которой представлены интрузивными породами основного состава (габбро и др.). Выявленные загадочные особенности распределения валунов малореально связывать с ледниковой синергетикой в области петрографии, но эти явления вполне объяснимы с точки зрения тектонического происхождения валунов. Кристаллические породы, давшие валуны кислого и основного состава, участвуют в строении Воронежского выступа фундамента и лежат на глубине порядка 100-150 м. Прежде чем перемещать за 2000 км валуны габбро и других основных пород с Балтийского щита следует обратить внимание, что по данным геологов (Н.М.Чернышов и др., 1988) еще более широко, чем на щите, эти породы развиты в нижележащем фундаменте, где выявлены многочисленные массивы габбро-норитов, норит-диоритов, габбро-диоритов, базит-гипербазитов (рис.89). По тем же данным фундамент и чехол Воронежского выступа разбит системой разломов широтного, меридионального, субширот-ного и других простираний (см. рис.89). Не вдаваясь в дискуссию о времени заложения систем разломов, отметим, что согласно исследованиям А.Т.Шевырева (1985), эти разломы (или значительная часть их) испытали активизацию на неотектоническом этапе. Движения по разломам продолжаются и ныне, о чем свидетельствуют зафиксированные в зонах сочленения разломов эпицентры слабых и средних землетрясений (Ананьин, 1968; Шевырев, 1985). Учитывая неглубокое залегание фундамента, можно полагать, что приразломные клинья и блоки, тектоническая брекчия основных и других пород фундамента выводились по сдвигам и взбросам на поверхность (см. раздел 3.6). Становится понятной “избирательная” концентрация валунов основных пород в “серой морене” - а валунов гранитоидов - в “красной”: на участках пересечения разломом крупного массива основных пород на поверхность по приразломным взбросам (или сдвигам со взбросовой составляющей) выводились блоки и брекчия пород, слагающих массив. Такой же механизм выведения на поверхность пород фундамента действовал и в разломах-сдвигах и взбросах, секущих гранитоиды. Однако, если массивы интрузивных пород малы по размерам и если горизонтальные смещения внутри приразломно-шовных зон сдвигов преобладают над вертикальными, вынос пород фундамента на поверхность может произойти не над массивом, а гораздо дальше и преобладать в тектонической брекчии будут не породы массива, а вмещающие гранитоиды или гнейсы. Помимо рассмотренного разломно-тектонического механизма, в палеозое и, возможно, в мезозое, на Русской платформе существовал еще один способ выведения глубокозалегающих пород на поверхностью. Это эксплозивные явления, связанные с образованием трубок взрыва, рвущих платформенный чехол и выносящих на поверхность вмещающие породы и породы, слагающие тело трубки (ультраосновные фоидиты, базальтоиды, мелилититы, кимберлиты, ксенолиты глубинных пород). В четвертичные отложения этот материал поступал за счет разрушения трубок взрыва. Данный механизм, конечно, более скромен по количеству крупнообломочного материала, поставляемого на поверхность, чем приразломно-тектонический процесс. Но его следует учитывать, тем более, что трубки взрыва могут поставлять “эрратические” породы, залегающие не только в земной коре, но и в мантии. До недавнего времени трубки взрыва на Русской платформе были почти неизвестны, ныне же выделяются целые их поля - в Архангельской, Ленинградской областях, в республике Коми, в Белоруссии. Подытоживая материалы по данному разделу, можно отметить, что крупнообломочный материал кристаллических и осадочных пород поставлялся в четвертичные отложения несколькими способами. В районах развития северных морских трансгрессий это дрифтовый разнос валунов кристаллических и осадочных пород. В этих же районах, а также в центральных частях Русской платформы, был развит процесс выведения на поверхность по сдвигам и надвигам клиньев, блоков и тектонической брекчии кристаллических пород фундамента и внутричехольных пород. Наряду с этим, происходил размыв и переотложение древних конгломератов, докайнозойских валуносодержащих пород, перенос грубообломочного материала озерными, речными льдами. Часть кристаллических обломков поступала на поверхность за счет разрушения докайнозойских трубок взрыва. Достаточны ли эти процессы, чтобы объяснить наличие имеющегося количества грубообломочного материала (особенно кристаллических пород) в моренах Русской платформы? Думается, что для северных областей Русской равнины и Западной Сибири эта проблема решена в пользу ледово-морского генезиса валунных суглинков, т.е. один из современных процессов - дрифтовый разнос грубообломочного материала достаточен для объяснения условий накопления части четвертичной валуносодержащей толщи. В западных и центральных областях Русской равнины (и на Балтийском щите) главными были разломно-дислокационные процессы, а точнее, совокупность эндогенных и экзогенных процессов, из которых тектонический фактор в значительной мере предопределял формирование рельефа и отложений. Посредством этих процессов крупнообломочный материал поставлялся на поверхность равнины и с их же участием перераспределялся, переотлагался, с одновременным формированием валуносодержащих отложений. Из процессов, посредством которых глыбово-валунный материал перемещался от приразломно-шовных зон, можно указать на такие, как оползание, солифлюкция, делювиальные, овражно-балочные, а также ледово-озерные и ледово-речные. Активизации этих процессов способствовали поступательные тектонические движения, приводившие к повторным дислокациям в чехле, формированию чешуйчатых “морен”, скучиванию отложений, новому их переотложению в условиях холмистого тектонического рельефа. При наличии на Русской равнине вечной мерзлоты (многочисленные данные в пользу этого приведены в работах А.А.Величко) и последующей ее деградации в процесс переотложения материала включалось пучение, термокарст, морозобойное трещинование, усиливались солифлюкционные явления. В итоге формировались покровные валуносодержащие отложения, которые принято относить к ледниковым. Напомним, что количество валунного материала в “моренах” Русской равнины незначительно. Даже с учетом гравийной фракции (которую почему-то относят к крупнообломочной фракции “морены”) количество этого материала по данным многочисленных гранулометрических анализов, приведенных в монографии А.А.Кагана и М.А.Солодухина (1971), в среднем не более 1%. Несколько выше содержание обломков местных осадочных пород. О незначительном, а возможно, ничтожном, содержании валунов кристаллических пород в моренных отложениях свидетельствует и заключение Ю.А.Лаврушина, А.Р.Гептнера и Ю.К.Голубева (1986): “Анализ вещественного состава морен на обширных пространствах платформ, сложенных осадочными породами, показывает, что в них резко преобладают местные породы. В этом отношении можно назвать все основные морены, с небольшим преувеличением, в какой-то степени локальными” (стр.59). Может возникнуть вопрос, почему “ледниковые” отложения распространены в означенных границах покровных оледенений? На него можно ответить следующим образом: 1) “означенные” границы оледенений - это границы зон разломной неотектонической активизации. “Гляциальная область” Восточно-Европейской платформы - это область широкого проявления новейших разломно-тектонических процессов, как в ее фундаменте, так и чехле; 2) за пределами предусмотренных границ оледенений также имели место “ледниковые” процессы (хотя и в меньшем масштабе и локально): образование “гляциодислокаций” в чехле, формирование экзарационных форм рельефа, “морены”, ленточных глин, появление эрратических валунов (например, валунов, гранитоидов в Крыму) и т.д. Эти факты, в той или иной мере, уже рассматривались в соответствующих разделах работы. С учетом известной формулировки Н.Г.Загорской: “Литологический облик морены давно и прочно потерян”, следует остановиться на вопросе моренообразования во внеледниковых районах. На юге Русской равнины широко распространены скифские или сыртовые глины и суглинки - неслоистые, комковатые отложения красноватой, бурой или пестрой окраски. Мощность их от первых метров до 20-25 м (Васильев, 1969). Скифские (сыртовые) глины развиты на всех элементах рельефа, являясь покровными отложениями. В толще глин и суглинков присутствуют стяжения и желваки карбонатного материала, марганца, нередко имеется грубообломочный материал галечной и гравийной размерности (Васильев, 1969; Марков и др., 1965). Изучение скифских глин, проведенное нами в береговых обрывах Таганрогского залива Азовского моря, показывает, что текстурно-текстурные особенности глин, их литология весьма напоминает “морены” того же Подмосковья, с той разницей, что в скифских глинах имеется обломочный материал только осадочных пород. Генезис скифских и сыртовых глин до сих пор остается проблематичным, но преобладает точка зрения об их делювиальном происхождении. В контексте с проблемой материковых оледенений необходимо учитывать, что подобные делювиальные процессы и формирование северных аналогов скифских глин могло иметь место в неогене и в центральных районах Русской равнины. Эти образования могли явиться основой мелкоземистой части “морены”. Возможно и делювиально-пролювиальное формирование “морены”, особенно в степных районах Русской равнины. Об этом, в частности, свидетельствуют исследования Л.В.Любимова (1975), проведенные в бассейне Хопра. Выделявшиеся здесь ранее мощные толщи (до 30-60 м) морен оказались в одних случаях овражно-балочными отложениями, а в других - элювиально-делювиальными. Близкие процессы развиты в Центральном Казахстане, где по описанию А.С.Сарсекова, Д.П.Позднышева и А.Г.Медчева (Геология СССР, т.ХХ), нижнечетвертичные делювиально-пролювиальные отложения представлены толщей (от 3-6 до 30 м мощности) красно-бурых суглинков и супесей с большим количеством неравномерно распределенных глыб, щебня и галек, составляющих около 30% массы породы. Средний размер обломков 0.1-0.2 м, максимальный - 1-2 м. Такие отложения наблюдались и нами в Северном Прибалхашье, причем валуны были представлены преимущественно гранитами, сиенито-диоритами. В районе канала Иртыш-Караганда А.С.Сарсековым, Д.П.Позднышевым и А.Г.Медчевым встречены эрратические валуны и гальки. По данным Е.И.Селиванова (1972) нижне-верхнечетвертичные покровные делювиальные и пролювиальные суглинки и супеси с галькой, щебнем и валунами широкое развиты в Монголии. Крупнообломочный материал в суглинках нередко эрратический (гранитного состава). Наконец, надо отметить, что и четвертичная система в Крыму иногда представлена супесчано-валунно-глыбовыми отложениями по габитусу весьма близкими к “морене” Карело-Кольского региона. Такая “морена” выявлена нами в береговых обрывах Черного моря у южного подножья г.Кастель (рис.90). Супесчаная, суглинистая “морена” с различным количеством грубообломочного материала (от 10-15 до 40-50%) фрагментарно развита от г.Кастель до г.Аю-Даг. Видимая мощность “морен” до 10-20 м, а валуны представлены диоритами, габбро-диоритами, диабазами, известняками, сланцами. Происхождение черноморских “морен” в основном делювиально-оползневое (частично селевое). Формировались они под влиянием разломно-тектонических процессов сбросового типа.
Выводы 1. Фундамент и платформенный чехол Русской плиты имеет блоковое строение и разбит системой разноориентированных разломов разного типа и порядка. 2. В неоген-четвертичное время имела место интенсивная тектоническая активизация северной части плиты. Это привело к горизонтальных и субвертикальным движениям по разломам, к развитию процессов вдольразломного перемещения материала приразломно-шовных зон (блоков, пластин, тектонической брекчии), к выведению пород фундамента и чехла по пологим или крутым сместителям к поверхности. 3. Выведенный на поверхность глыбово-валунный материал рассредотачивался, перемещался посредством экзогенных процессов - солифлюкции, оползания, делювиально-пролювиальных явлений, разносился озерными и речными льдами. Эти процессы происходили на фоне неоднократной активизации зон разломов, что вело к образованию новых дислокаций в осадочном чехле, к скучиванию “отложенного” материала в “холмисто-моренные” и “конечно-моренные” комплексы, к формированию многослойных чешуйчатых “морен”. 4. Валуны, глыбы четвертичных отложений Русской равнины (за исключением ее северных районов, где сформировались ледово-морские валунные суглинки) могут в общих чертах отражать строение нижележащего кристаллического фундамента платформы. Чем тоньше платформенный чехол, тем достовернее эта зависимость.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ссылка на книгу: Чувардинский В.Г. О ледниковой теории. Происхождение образований ледниковой формации. - Апатиты, 1998. (“Мурмангеолком”, ОАО “Центрально-Кольская экспедиция”). 302 c.
|
![]()