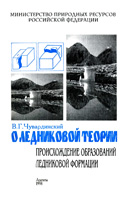| ||
|
| ||
|
“В угоду гляциалистической концепции приходится самым жестоким образом калечить флористические факты”. Проф. М.В.Клоков (1955) “Биогеографические данные обязывают отказаться от ледниковой гипотезы в любом ее варианте”. Проф. В.Н.Васильев (1961) Глава 5 ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ
5.1. Биогеографические данные и ледниковая теория Изучение кайнозойских флор и фаун, анализ их географического распределения показывают, что развитие растительного и животного мира на площадях предполагаемых покровных оледенений не прерывалось, а шло поступательно в соответствии с теми природно-климатическими изменениями (морские трансгрессии, горообразование, экспансия и деградация мерзлоты, колебания ледников), которые имели место в четвертичном периоде (работы И.Г.Пидопличко, Г.У.Линдберга, В.Н.Васильева, М.В.Клокова, П.И.Дорофеева). Более того, даже в центре предполагаемого оледенения - в Фенноскандии, где ледниковая “пята” изображается наиболее продолжительно существовавшей, выявлены многочисленные реликтовые и эндемичные виды растений и животных, переживших ледниковый период на месте (работы Р.Нордхагена, А.Хансена, Х.Броха, С.Экмана, Б.А.Мишкина, Р.Н.Шлякова, Е.В.Вульфа, В.Н.Васильева). Дискуссия по вопросу “перезимовки” рядом высших растений и животных ледникового периода в Фенноскандии ведется уже более полувека. Результаты ее в основном, сводятся к следующему: 1) факт наличия реликтовых и эндемичных видов растений и животных в составе флоры и фауны Фенноскандии признается большинством исследователей; 2) большинство ученых также считает возможным признать теорию “перезимовки” растений и животных в течение последней ледниковой эпохи. Согласно этим представлениям они находились в убежищах, рефугиумах - в основном на нунатаках, возвышающихся над ледниковым покровом. Эту теорию поддерживают и многие крупные геологи и географы (У.Хольтедаль, Л.Р.Серебряный, Р.К.Баландин). Единственный недостаток этой теории - невозможность произрастания высших растений (а также обитания животных) как на нунатаках, так и в других убежищах в центре материкового оледенения, каковым считается Фенноскандия. В последние 20-30 лет, благодаря развитию метода радиоуглеродного (С14) определения возраста органических остатков, появился огромный фактический материал, позволяющий познать природную обстановку равнин умеренных широт и, особенно, центральноледниковых районов в последнюю ледниковую эпоху. Кратко остановимся на этом вопросе. В 1970 году автором были опубликованы две статьи (Чувардинский, 1970а,б), в которых на основе анализа датировок по С14 органических остатков из верхнечетвертичных отложений Фенноскандии и Северной Америки были сделаны выводы об отсутствии материковых оледенений в этих районах . Анализ датировок древесины, торфа, костей животных, раковин моллюсков, показывает, что во время последней ледниковой эпохи (26-10 тыс.лет назад) ни в Фенноскандии, ни на Канадском щите, а также на Таймыре и севере Западной Сибири покровное оледенение не могло иметь места. Так, в период висконсинского оледенения (промежуток времени 26000-8000 лет назад), когда Северную Америку принято покрывать мощным ледниковым щитом, из верхнечетвертичных отложений ледниковой зоны, получены многочисленные датировки по С14 древесины, торфа, других органических остатков, имеющих возраст 26000-8000 лет. При этом большое количество датировок из верхнечетвертичных отложений территориально расположено в центрально-ледниковой зоне и датируется временем 20-17 тыс.лет назад, то есть соответствует максимальной фазе висконсинской ледниковой эпохи (Чувардинский, 1970а). Датировки по С14 указывают, что, по крайней мере, в висконсинскую ледниковую эпоху покровного оледенения Канады и Севера США не было. Ведь не могли же произрастать леса (датировки древесины), накапливаться торф (датировки торфа) в центральных частях ледникового щита. Равно не мог ледник переместить древесину, другие органические остатки в центрально-ледниковую область со своей южной краевой зоны (для этого пришлось бы вводить эффект большой ледниковой бороны, тащившей за деградирующим ледником органические остатки). Можно отметить, что и смещение во времени ледниковой и межледниковой эпох не дает удовлетворительного выхода из парадоксального положения. На время межледниковой эпохи на ту же территорию приходится не меньшее количество датировок по С14. Близкая картина наблюдается и при анализе датировок по С14 органических остатков для времени вюрмского оледенения (23000-10000 лет назад) Фенноскандии (Чувардинский, 1970а,б). Этим временем в Скандинавии датированы кости мамонтов, древесина, органический материал из морских отложений. Фактически во время вюрмского оледенения в Фенноскандии произрастала древесная растительность, обитали мамонты, часть территории была под уровнем моря. Датировки органических остатков из верхнечетвертичных отложений хорошо согласуются с отмеченными выше материалами по реликтовой и эндемичной флоре и фауне, пережившей ледниковый период в Фенноскандии. Обстоятельный анализ датировок по С14 органических остатков из верхнечетвертичных отложений Таймыра, Ямала, Гыдана выполнен И.Д.Даниловым (1978), Ю.К.Васильчуком и др. (1984). Поэтому эти материалы здесь не рассматриваются. Можно лишь согласиться с выводами указанных авторов, что радиоуглеродные датировки свидетельствуют об отсутствии покровных оледенений на Таймыре и на севере Западной Сибири в зырянскую эпоху. Резюмируя приведенные краткие сведения биогеографического характера и датировки по С14, можно присоединиться к выводу крупного отечественного ботанико-географа В.Н.Васильева, что биогеографические данные в корне противоречат ледниковой теории и эта теория должна быть пересмотрена. Большое значение для познания палеогеографии плейстоцена имеют данные по изучению фауны и флоры в морях Северного Ледовитого океана. Вопреки теории заполнения этих морей материковыми льдами толщиной 2-2.5 км, для Белого моря даже 4 км (см. Гросвальд, Глебова, 1991, рис.3), эти данные свидетельствуют, что во время “оледенения”, в них нормально развивалась арктическая, субарктическая, а в Баренцевом и Белом морях даже бореальная фауна. Для морей Арктики характерен высокий эндемизм бентосной фауны (Атлас Арктики, 1985). На шельфе от 40 до 50% видов бентосной фауны являются эндемичными. Эндемичные роды имеются в большинстве групп беспозвоночных, среди которых выделяются 9 эндемичных и 5 автохтонных арктических родов иглокожих, более 15 родов бокоплавов, 6 родов рыб. В других группах бентосной фауны - среди корненожек, губок, червей, моллюсков, изопод, декапод, морских пауков имеется от 1 до 4 эндемичных родов. Согласно выводам Е.Ф.Гурьяновой (1985), все эндемичные виды, к каким бы родам они не принадлежали, возникли в четвертичное время за период от раннего до позднего плейстоцена. По тем же данным характер распределения эндемичных видов бентосной фауны указывает на существование следующих центров формирования шельфовой арктической фауны: Карского, Сибирского и Чукотско-Американского. Все эти данные достаточно определенно свидетельствуют, что развитие бентосной фауны шельфовых морей в четвертичное время не прерывалось гипотетическими покровными оледенениями. Особый интерес для решения рассматриваемой проблемы представляет Белое море, впадину которого, равно как и прилежащую сушу, принято заполнять и перекрывать мощными материковыми льдами толщиной до 4 (!) км. Согласно этим представлениям последнее покровное оледенение, уничтожившее в Белом море все живое, происходило в осташковскую эпоху, то есть в период порядка 23-10 тыс.лет назад. Однако, наличие в Белом море большого количества реликтовой и эндемичной фауны и флоры, установленных работами Н.М.Книповича, К.М.Дерюгина, Е.Ф.Гурьяновой, ставят под сомнение такие представления. Сведения о реликтовых и эндемичных организмах, переживших ледниковый период в Белом море, подытожены в книге Е.Ф.Гурьяновой “Белое море и его фауна” (1948). В Белом море установлено две основные группы реликтов: представители высокоарктической фауны (моллюски, ракообразные) и бореальные реликты (моллюски, мшанки - всего до 60 видов морской бореальной реликтовой фауны и флоры). Анализируя материалы по реликтовой фауне, Е.Ф.Гурьянова пишет: “Совершенно исключительный интерес представляет присутствие среди теплолюбивых реликтов Белого моря ряда видов, которые устанавливают наличие каких-то древних и пока еще не выясненных связей между Белым морем и дальневосточными морями, с одной стороны и между Белым и Балтийским морями - с другой. Все эти виды бореальной природы обладают разорванным ареалом распределения и встречаются либо только в Белом море и в Японском и Охотском морях и нигде в промежуточном районе не найдены, либо только в Белом и Балтийском, с прилегающими к нему районами Северного моря, и отсутствуют в переходной части Северной Атлантики и Западного сектора Арктики”. Всего в Белом море известно 17 видов реликтовой тихоокеанской фауны и более 20 видов балтийской реликтовой фауны и флоры. Касаясь последних, Е.Ф.Гурьянова пишет, что “все это виды бореальной природы и концентрируются они на мелководьях западной половины Белого моря, придавая ему совершенно своеобразный “балтийский” облик, и, очевидно, должны быть отнесены к реликтам предшествующей, более тепловодной эпохи”. Каким же образом сохранилась реликтовая фауна и флора в Белом море, если оно неоднократно выполнялось материковыми льдами и льды последнего оледенения , согласно В.С.Медведеву, Е.Н.Невесскому (1971), исчезли только в голоцене. Н.М.Книпович и К.М.Дерюгин, исходя из биогеографических данных считали, что реликтовая теплолюбивая (бореальная) фауна имеет межледниковый, бореальный (мгинский) возраст, а высокоарктические реликты, возможно, еще более древние. Но “доказанность” осташковского оледенения Белого моря, в последующую за мгинским межледниковьем эпоху, поставила биологов в тупик. В самом деле, как совместить теорию мощного материкового оледенения беломорской впадины и сохранение древних реликтовых видов морской фауны и флоры? Не случайно крупный исследователь беломорской и баренцевоморской фауны Е.Ф.Гурьянова пришла к малоутешительному заключению, что этот вопрос “очень темен и совершенно запутан, и эта одна из самых интересных загадок биогеографии Белого моря”. Сохранение в Белом море многочисленной реликтовой фауны и флоры, в том числе тихоокеанских и балтийских видов, свидетельствует о том, что Белое море являлось своеобразным убежищем для плейстоценовой и более древней морской фауны и флоры и не заполнялось материковыми льдами. Биогеографические материалы вполне определенно указывают, что в четвертичное время шельфы арктических (и дальневосточных) морей не покрывались материковыми льдами и гипотеза панарктического ледникового покрова не имеет фактического обоснования.
Погребенные пластовые льды Являются важным доказательством существования покровных оледенений в Западной и Восточной Сибири, на шельфах арктических морей. Рассматриваются в качестве остатков былых покровных ледников (В.И.Астахов, М.Г.Гросвальд, Ф.А.Каплянская, В.Д.Тарноградский и др.). В последние годы благодаря углубленным мерзлотно-гидрогеологическим исследованиям были получены убедительные данные об их неледниковом генезисе (Л.Н.Крицук, 1985, 1988, 1990; Л.Н.Крицук и Н.П.Анисимова, 1985). Эти работы показали, что пластовые льды являются внутригрунтовыми образованиями, сформировавшимися при промерзании поверхностных или подземных вод зоны свободного водообмена. При образовании вечной мерзлоты в пластовые льды преобразовывались и пластово-трещинные воды, а в эпохи усиления процессов промерзания - межмерзлотные и напорные трещинные воды. В частности, пластовые льды широко известной Ледяной горы в нижнем течении р.Енисей образовались в результате промерзания высоконапорных пластово-трещинных вод (Крицук, Анисимова, 1985). Имеющиеся данные “практически сводят на нет обоснования гипотез гляциодиапиризма и захоронения глетчерного льда” (В.В.Ловчук, М.С.Красс, 1987, с.107). Заключая раздел, можно отметить, что материалы биогеографических исследований определенно свидетельствуют об отсутствии покровных оледенений равнин умеренных широт. Для понимания проблемы можно привести следующие обобщения: В книге “Физическая география СССР” Ф.Н.Мильков и Н.А.Гвоздецкий указывают: “В настоящее время палеогеографические исследования (преимущественно изучение остатков ископаемой фауны и флоры) не дают оснований говорить о существовании в ледниковую эпоху необычайно суровых климатических условий. Наоборот, имеющиеся палеоботанические, палеозоологические и археологические данные свидетельствуют, что климат ледниковой эпохи хотя и был более холодным и более континентальным, чем сейчас, но не настолько, чтобы в непосредственной близости от ледника не могла обитать богатая фауна и произрастать не только хвойные, но и обедненные широколиственные леса” (стр.103). В настоящее время обедненные широколиственные леса не продвигаются севернее Ленинградской области, и таким образом (в согласии с Ф.Н.Мильковым и Н.А.Гвоздецким) об особом похолодании “в ледниковую эпоху” говорить не приходится, хотя указанные ученые от оледенения, конечно, не отказываются. Приведенные сведения в общем согласуются с палеоботаническими материалами времени последнего (висконсинского) оледенения в США. По исследованиям Е.Грюгера (1973) в штате Иллинойс в висконсинскую эпоху, наряду с хвойными лесами, не далее, чем в 60 км от края ледникового покрова произрастали и термофильные листопадные породы деревьев - преимущественно дубравы. А какова должна быть фактическая природная обстановка во время великих оледенений? Неужто 200 гипотез о причинах ледниковых периодов выдвигались и обосновывались только для того, что констатировать, что во время оледенения особых изменений климата, растительного и животного мира не было. Основоположник ледниковой теории Луи Агассис в своем трактате “Исследования ледников” писал (приводится по Дж.Имбри и К.Имбри, 1988): “Появление чудовищных ледниковых покровов означало уничтожение всей органической жизни на земной поверхности. Территория Европы, которая перед тем была покрыта тропической растительностью ... внезапно исчезла под бескрайними массами льда, погребавшего все - равнины, озера, моря, возвышенности. Наступило безмолвие смерти. Источники иссякли, течение рек прекратилось и лучи солнца, встававшего над этими застывшими просторами слышали лишь завывание ветра да сухой треск, с которым поверхность ледяного океана вдруг рассекалась змеящимися трещинами”. Таким образом, перед нами две разные картины одного и того же явления - великого материкового оледенения. Профессор Ф.Н.Мильков, профессор Н.А.Гвоздецкий, доктор Е.Грюгер проанализировали большой объем биогеографических, в том числе палеоботанических данных и, опираясь на них, изобразили далеко не перигляциальные климаты. На их картине обычные таежные и даже южнотаежные пейзажи. Л.Агассис, напротив, нарисовал картину, которая должна быть при великом оледенении. И он по-своему прав. Разве не таков климат в Антарктиде? Если же природные условия во время “оледенения” в Европе и США в действительности оказались близкими к современным, то зачем отстаивать учение о ледниковых периодах, зачем защищать сотни диссертаций, в основе которых лежит ледниковая теория?
“Ледниковые покровы весьма устойчивы и не угрожают случайными ледниковыми эпохами и всемирными потопами”. Проф. П.А.Шумский (1978)
5.2. О тепловой устойчивости и темпах деградации ледниковых покровов Известно, что Антарктический ледниковый покров начал формироваться еще в олигоцене более 30 млн лет назад, а ледниковый щит, близкий к современному, образовался на рубеже среднего и позднего миоцена - 11-14 млн лет назад (Гляциологический словарь, 1984; Эндрюс, 1982; Основные проблемы палеогеографии Арктики, 1983). Ледниковый покров Гренландии образовался в среднем миоцене, а 3.5 млн лет назад достиг размеров, близким к современным (Дж.Эндрюс, 1982). И.А.Зотиков (1982) также особо подчеркивает стационарность ледниковых покровов Антарктиды и Гренландии “размеры которых почти не менялись за последние несколько миллионов лет”. А какова была продолжительность последней ледниковой эпохи (валдайской, осташковской, висконсинской) в Европе и Северной Америке? Согласно существующим схемам общая продолжительность этой ледниковой эпохи в Европе не более 14-16 тыс.лет. Так, по геохронологической шкале, разработанной большой группой ленинградских ученых (М.Е.Вигдорчик, В.Г.Ауслендер, П.М.Долуханов, О.М.Знаменская и др., 1971) последнее валдайское оледенение началось 24 тыс.лет назад и закончилось 10 тыс.лет назад. Е.П.Заррина (1971) устанавливает следующий период этого оледенения: начало около 23 тыс.лет, окончание - около 11 тыс.лет назад. Еще более краткую продолжительность осташковской ледниковой эпохи определяют Б.М.Келлер и Ю.А.Лаврушин (1970) - начало оледенения - 20 тыс.лет назад, полная деградация ледника - 10.5 тыс.лет назад. В монографической сводке, посвященной хронологии последней ледниковой эпохи, а также в работе 1982 г. Н.С.Чеботарева и И.А.Макарычева (1974, 1982) определяют начало валдайского оледенения около 24 тыс.лет назад, максимальную фазу 18-17 тыс.лет назад, а период деградации ледниковых масс 16-9.4 тыс.лет назад. Последняя ледниковая эпоха в Северной Америке - висконсинская, также укладывается в этот временной интервал. Оледенение началось 25 тыс.лет назад, достигло максимума 18 тыс.лет назад и закончилось около 7 тыс.лет назад (Флинт, 1963; Дайсон, 1966; Эндрюс, 1982). Итак, за время, отпущенное палеогеографами и составляющее 10-15 тыс.лет для Европы и около 18 тыс.лет для Северной Америки огромные массы льда толщиной 3-3.5 км надвинулись на равнины этих континентов, сформировали толщи ледниковых отложений, разнообразные формы рельефа и исчезли. На фоне этих удивительных превращений неправдоподобно выглядит консервативность Антарктического и Гренландского ледниковых щитов, существующих беспрерывно многие миллионы лет. Более того, как указывалось, согласно исследованиям И.А.Зотикова (1982), размеры этих покровов “почти не менялись последние несколько миллионов лет”. Эта парадоксальность становится еще более рельефнее при сравнении Гренландского ледникового покрова с огромным - Лаврентийским ледниковым щитом, покрывавшим в последнюю ледниковую эпоху Канаду и часть США. Будучи по объему льда в 11.5 раза меньше Лаврентийского покрова (3.0 млн км3 против 34.8 млн км3), Гренландский покров “почти не менялся последние несколько миллионов лет”, тогда как Лаврентийский покров за период с 26 до 18 тыс.лет покрыл 3-3.5 км толщей льда территорию более 11.6 млн км2, и растаял. За четвертичный период предусматривается несколько таких оледенений и несколько эпох таяния и исчезнования ледниковых щитов. Ранее на отмеченные палеогеографические противоречия неоднократно указывал И.Д.Данилов. Вообще, хронология ледниковых событий верхнего плейстоцена таит в себе много неизвестного и прежде всего саму возможность существования ледниковых покровов на равнинах умеренных широт. Резко противоречат покровному оледенению и датировки по С14 органических остатков из верхнеплейстоценовых отложений Фенноскандии, Канадского щита, Русской равнины, других районов (эти материалы кратко рассмотрены в разделе 5.1). Декларативными являются и предложенные темпы развития ледниковых покровов. Предусмотренные хронологические рамки продвижения ледниковых масс до очерченных границ требуют скоростей движения льда в 100-200 раз больших, чем это установлено для ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии. Напомним, что в Антарктиде в районе ст.Восток расстояние 150 км лед проходит за 150-200 тыс.лет, а в центрально-ледниковой зоне Антарктиды расстояние 50 км за 1 млн лет (Зотиков, 1982). Принятые скорости деградации осташковского (висконсинского) оледенения, ограниченные все более сужающимся временным диапазоном, также не находят даже отдаленных аналогов в природном гляциологическом процессе. В связи с этим правомерен вопрос: какова научно обоснованная продолжительность распада и исчезновения ледниковых покровов типа Лаврентийского, а также Гренландского и Антарктического. Такие расчеты на основе математического моделирования выполнили М.С.Красс (1983), П.А.Шумской и М.С.Красс (1983). Их метод основан на эволюционной модели разогрева ледниковых покровов в условиях общих климатических потеплений. Принимая приращение положительных температур равным 5% и прогнозируя это потепление на десятки тысяч лет вперед, они получили следующие результаты. Гренландский ледниковый покров остается термически устойчивым: 5% увеличение температур не приводит к разогреву, хотя температура льда на дне становится близкой к точке плавления. При допускаемом 5% климатическом отеплении Антарктического ледникового щита, происходит отепление его нижних горизонтов льда до температур, близких к плавлению. За период времени от 15 до 40 тыс.лет в разных частях ледникового покрова образуется слой тающего льда толщиной от 100 до 240 м. При этом, для того, чтобы этот слой нагретого льда растаял на 25%, дополнительно потребуется не менее 60 тыс.лет (Шумский и Красс, 1983; Красс, 1983). Что касается Лаврентийского ледникового щита, то 5% приращение температур сверху не приводит к его необходимому отеплению, он остается термически устойчивым. Для того, чтобы добиться термической неустойчивости Лаврентийского ледника П.А.Шумский и М.С.Красс при том же 5% приращении температур рассчитали другую математическую модель, в которой было увеличено в 2 раза напряжение сдвига на ледниковом ложе и, соответственно, в 16 раз увеличен параметр тепловыделения (известный также, как параметр устойчивости). Это дало возможность перевести данный ледниковый покров из разряда термически устойчивого в разряд неустойчивого. Этим достигается, что за 60 тыс.лет в донной части покрова образуется слой льда толщиной 200 м, разогретого до температуры таяния. В последующем за дополнительные 60 тыс.лет этот слой растает на 25%. Как подчеркивают П.А.Шумский и М.С.Красс, это не означает механическую неустойчивость ледникового покрова, и он может существовать в режиме донного таяния неопределенно долго, хотя тенденция к деградации льдов к их механической неустойчивости сохраняется. Итак, можно констатировать, что эволюционные математические модели, основанные на 5% приращении положительных температур приводят к разогреву Антарктического ледникового щита, к образованию в его придонной части слоя льда мощностью 100-240 м с температурой плавления. Но при таких условиях не происходит разогрева Гренландского и Лаврентийского покровов, они остаются термически устойчивыми. Лишь при увеличении напряжений сдвига, сильном изменении параметра устойчивости и подбора необходимого для решения задачи параметра адвекции, в новой модели Лаврентийского ледникового покрова наступает отепление снизу и образование за 60 тыс.лет 200-метрового слоя тающего льда. В последующем (в дополнительные 60 тыс.лет) происходит растаивание этого слоя на 25%. Почему эволюционное (климатического типа) отепление ледниковых щитов с поверхности в итоге приводит к отеплению нижних горизонтов льда, вплоть до образования слоя тающего льда, а не ведет к процессу таяния с поверхности? Это объясняется следующими причинами: 1) температуры льда близ ложа ледниковых щитов выше, чем на их поверхности, что связано с геотермическим потоком тепла, наиболее эффективно сказывающемся в больших по мощности ледниковых щитах; 2) при разогреве ледниковых щитов сверху на начальном этапе идет повышение температуры верхних слоев льда, но затем, по мере проникновения температурного возмущения (за счет адвекции) вглубь, происходит нарастающий во времени разогрев придонных слоев льда, где и сосредотачиваются процессы таяния ледника, ведущие к его тепловой неустойчивости (Шумский и Красс, 1983). Такой механизм отепления ледников принимается и в моделях других исследователей (У.Патерсона, Ю.Нитсана, Дж.Кларка). Но скорости моделируемых и математически рассчитанных явлений явно противоречит принятым палеогеографическим схемам дегляциации гипотетического осташкового (висконсинского) оледенения. Только для того, что нагреть определенный слой льда материкового ледника до точки плавления и на четверть растопить его, требуется 100-120 тыс.лет. Для дальнейшего полного таяния ледниковых масс при то же 5% приращениях температуры необходимо еще несколько сотен тысяч лет. Моделирование теплового режима Лаврентийского и Гренландского ледниковых щитов также показывает, что они остаются устойчивыми и при 5% приращении положительных температур. Чтобы вызвать отепление Лаврентийского ледника с формированием в нем слоя таяния льда, пришлось вводить в модель более высокие значения напряжений сдвига и весьма сильно изменять параметр теплоустойчивости. Но может быть было бы проще увеличить цифру прироста положительных температур, увеличить масштаб климатического потепления? Такой вариант тоже был математически рассчитан П.А.Шумским и М.С.Крассом и показал, что более сильное общеклиматическое потепление (посредством принятия в модели безразмерного увеличения положительных температур и, соответственно, увеличение интенсивности адвекции - в модели в 100 раз) действительно сокращает время разогрева льда, но не столь значительно, как можно было ожидать, а всего на 25% (Шумский и Красс, 1983). Кроме того, оказалось, что безразмерное повышение температур заключает в себе опасность получения абсурдных результатов, что и подтвердилось: в донной части Антарктического ледника расчетная температура оказалась равной +13ºС. Безразмерное повышение температур для целей быстрого таяния Европейского и Лаврентийского ледниковых покровов, вызывает большой риск одновременной деградации Гренландского и Антарктического покровов. Последний, как показывают результаты математического моделирования П.А.Шумского и М.С.Красса, оказывается менее устойчивым к 5% приросту положительных температур, чем гипотетический Лаврентийский ледниковый щит. В публикациях по последнему ледниковому периоду Европы наибольшей популярностью пользуется модель В.Г.Ходакова (1969, 1982), в которой реализуется идея вместить развитие и деградацию осташковского ледникового покрова в отведенный временнóй интервал - 30 тыс.лет. В результате, хотя леднику и “удалось достичь” верховьев Днепра, скорость его движения получилась в 100-200 раз больше, чем это наблюдается в современных ледниковых покровах. Следует также заметить, что необходимая скорость движения ледника к отмеченным рубежам и, соответственно, скорость его отступания, должны быть удвоены и составить 200-400-кратное превышение против актуалистической модели. Дело в том, что В.Г.Ходаков (1969, 1982) в основу своих расчетов положил устаревшие цифры о продолжительности ледниковой эпохи - 30 тыс.лет (в интервале времени - 40-10 тыс.лет), тогда как продолжительность ее ныне определена всего 14-15 тыс.лет (интервал времени 24 тыс. - 10-9 тыс.лет), а согласно Б.М.Келлеру и Ю.А.Лаврушину (1970) еще меньше - в интервале от 20 до 10.5 тыс.лет, то есть общая продолжительность ледниковой эпохи не более 10 тыс.лет. Если это время распределить поровну между двумя ледниковыми фазами, то на наступание ледника и на его деградацию приходится по 5-8 тыс.лет. Надо также учитывать, что в фазу отступления - за эти 5-8 тыс.лет ледник должен осуществить ряд повторных осцилляций, иначе будет нарушена стройность схем, разработанных палеогеографами. Очевидно, что при последующем сокращении продолжительности осташковской ледниковой эпохи (а имеющиеся датировки по С14 уже обязывают делать это) потребуется новое увеличение скорости движения ледника и резкое новое убыстрение темпов его деградации, осцилляторных подвижек. Вопросы дегляциации последнего оледенения Северной Америки, Лаврентийского ледникового щита также находятся в центре внимания палеогеографов. Существенный интерес представляет карта изохрон последнего оледенения, составленная американскими и канадскими учеными. Поскольку хронологический интервал этого оледенения уже достаточно давно определен, темпы таяния и отступания ледникового покрова оказались настолько быстрыми, что это вызвало необходимость проведения расчетов затрат тепловой энергии, требуемой для этого. По расчетам, выполненным Дж.Эндрюсом (приводится по М.Г.Гросвальду, 1983) для убывания льдов Лаврентийского ледникового покрова требовалось ежегодно порядка 360 ккал/см2 тепловой энергии. Нынче в эти же районы поступает всего около 30 ккал/см2 тепловой солнечной энергии. Увеличение тепловой энергии во время таяния ледника в 12 раз, против современного поступления тепла, на порядок увеличивает и среднегодовые температуры воздуха на площади тающего ледникового покрова и доводит ее до сахарских или экваториальных температур. Но парадокс не только в этом. В Европе во время таяния последнего оледенения (валдайского, вюрмского) по данным ряда географов наступил период необычайного холода, образовалась мощная и обширная зона вечной мерзлоты (А.А.Величко, 1973, 1982). В отличие от Лаврентийского ледникового щита, на деградацию которого потребовалась неимоверная тепловая энергия, Европейский ледниковый покров деградировал и исчез без оной. Даже наоборот. В монографии “Природный процесс в плейстоцене” А.А.Величко (1973) пришел к выводу: “Всеобщее сокращение ледника было связано не с общим потеплением, а, наоборот, с общим и самым резким похолоданием и континентализацией климата в истории всего плейстоцена ... Последнее покровное оледенение задохнулось именно от самых низких температур и от недостатка влаги” (А.А.Величко, 1973, стр.118). Если принять такой механизм дегляциации обширного вюрмского оледенения, то неясно какие “ледниковые климаты” вызвали рост и продвижение на тысячи километров столь неморозоустойчивого ледникового покрова. Не исключено, что для палеогеографов было лучше, если бы оледенение “задохнулось” на стадии его зарождения. Заключая этот раздел, следует еще раз подчеркнуть значимость выводов выдающегося отечественного гляциолога Петра Александровича Шумского (1915-1988) об устойчивости ледниковых систем. По П.А.Шумскому (1978) ледниковые щиты, достигнув в своем развитии равновесия, поддерживают стационарность, реагируя на изменение природных условий посредством релаксационных автоколебаний. “Ледниковым куполам не нужно внезапно разрастаться на тысячи километров до материковых размеров и исчезать: чтобы приспособиться к малым колебаниями условий достаточно немного изменить форму поверхности. Ледники и ледниковые покровы весьма устойчивы и не угрожают случайными ледниковыми эпохами и всемирными потопами” (Шумский, 1978, стр.108-109). В последующих работах П.А.Шумский неоднократно указывал на ошибочность распространенных представлений о мнимой имманентной неустойчивости ледников, на ошибочность идей о быстром разрастании ледниковых покровов (Шумский и Красс, 1983). Этим и следует руководствоваться, прежде чем принимать на веру учение о ледниковом периоде.
5.3. Гипотезы о причинах ледниковых периодов Уже указывалось, что имеется более 200 серьезных гипотез о причинах ледниковых периодов и наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему росту их численности. Ситуация напоминает положение на рубеже XIX и XX веков, когда по выражению известного немецкого геолога М.Шварцбаха (1955) “одна за другой, как грибы, появлялись гипотезы о причинах ледникового периода”. Однако, несмотря на изобилие гипотез, ни одна из них до сих пор не может найти эту причину. Нет смысла, да и невозможно, рассматривать 200 гипотез, вошедших в анналы ледниковой теории. Одна часть гипотез уносит читателей в неведомые космические и галактические дали, другие отличаются друг от друга некоторыми деталями аппликационного характера, третья группа гипотез - нынче наиболее модная, широко использует компьютерную обработку “ледниковых” данных и “ледниковых” программ и в итоге подтверждает правильность ледниковой теории. И, наконец, еще одна большая группа гипотез основана на предпосылках близких к принципу алогизма, подмеченного Дж.Оруэллом (1984). Согласно сводке М.Шварцбаха (1955) различные ученые доказывают, что ледниковые периоды возникали по следующим причинам: 1. Вследствие суровых зим (Кроль, Пильгрим). 2. Вследствие мягких зим (Кеппен). 3. По причине ослабления интенсивности солнечной радиации (Дюбуа). 4. В связи с усилением интенсивности солнечной радиации (Симпсон). 5. Вследствие ослабления влияния теплого течения Гольфстрим (Вундт). 6. В связи с усилением влияния теплого течения Гольфстрим (Берман). 7. Вследствие усиления вулканической деятельности (Хантингтон). 8. По причине ослабления вулканической деятельности (Фрех). По такому же принципу построены и гипотезы о причинах прекращения ледниковых периодов. Одни ученые считают, что ледниковые покровы исчезли вследствие потепления климата и повышения температур, а другие (А.А.Величко) - по причине похолодания климата и резкого понижения температур. Видный английский геолог Дж.Чарлсуэрт, анализируя многочисленные гипотезы о причинах “оледенений” пришел к выводу, что “они варьируют от маловероятных до внутренне противоречивых и явно несовершенных” (приводится по Б.Джону, 1982). “Впоследствии положение еще более запуталось”, пишет Б.Джон. Это положение вместе с тем свидетельствует, что мнимые, несуществовавшие глобальные ледниковые периоды не поддаются доказательству, если при этом не игнорируются факты и закономерности развития природы. Теория великих оледенений занимает почетное место среди предсказателей и популяризаторов науки. Появилось немало изданий (особенно на западе), в которых предсказывается скорое наступление нового ледникового периода. Н.Колдер в книге “Машина времени и ледяная угроза” предвещает приход ледникового периода в любой момент, так как по его мнению в последние десятилетия увеличились объемы снегопадов, верный признак начала оледенения. Дж.Гриббин в книге “Климатическая угроза” дает землянам определенную передышку. По его утверждению ледники покроют Европу и Северную Америку не раньше, чем через несколько столетий. Наш советский Семен Барраш отдаляет ледяную угрозу на несколько тысячелетий, но предупреждает, что, вычисленный им 400-тысячелетний ритм глобальных катаклизмов заканчивается. Профессор У.Кэри в книге “В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной” (1991), изучив изотопные кривые Ч.Эмилиани, соглашается с его выводами о частых оледенениях в четвертичном периоде и приходит к неутешительному заключению: “оледенения (и межледниковья) были много короче по времени, чем это принято считать и гораздо более многочисленны - их было не 4, а 20!” “Ужаснее всего, - пишет далее У.Кэри, - что наше теплое межледниковье почти окончилось .., на Европу, Азию, Северную Америку надвигается следующая ледниковая эпоха” (стр.90). 20 оледенений и 20 межледниковий за четвертичный период, это, конечно, многовато, но безысходности не должно быть, так как, кроме учения о столь частых ледниковых циклах, имеется учение только об одном большом оледенении, но зато и большом межледниковье.
“В каменноугольном периоде образовалось 27% мировых запасов каменных углей”. (“Историческая геология...”, 1985)
“Климат пермского периода был вообще самым теплым из ранее господствовавших в палеозое”. (Геологический словарь, 1973)
5.4. О пермско-каменноугольном оледенении Главными доказательствами позднепалеозойского оледенения являются мощные толщи тиллитов, штриховка и полировка кристаллических пород, рельеф бараньих лбов, серповидные выемки и другие критерии, используемые и для доказательств четвертичных ледниковых покровов. Широкое привлечение этих признаков для доказательства пермско-карбонового оледенения позволило сделать вывод о необычайной грандиозности ледниковых событий. Принято считать, что ледяной панцирь толщиной до 5-6 км покрывал Южную и Центральную Африку, Индостан, Мадагаскар, Австралию, Антарктиду, Южную Америку, часть Аравийского полуострова. Обнаружены следы покровного оледенения в Северной Америке, других районах Земли (Джон, 1982; Гаврилов, 1986; Владимирская, Кагарманов, 1985; Кагарманов, 1987; Фурмарье, 1971). Успешное установление следов этого оледенения, получившего название “великое”, расширение территорий, пребывавших под ледниковым щитом, одновременно вело к серьезным противоречиям, палеогеографическим неувязкам. Е.С.Короткевич (1972) один из первых исследователей, кто указал на эти противоречия в картине великого оледенения. В книге “Полярные пустыни” он пишет: “Позднекарбоновое оледенение охватило настолько огромную площадь, что даже при любом “укладывании” материков (имеется ввиду теория тектоники плит (В.Ч.) на поверхности земного шара, оно распространяется от южного полюса до 30-40о широты, то есть, если учесть соответствующее распространение его в северном полушарии, оледенение охватывает почти весь земной шар” (стр.33). Cогласно Е.С.Короткевичу и теория перемещения полюсов “не объясняет одновременного распространения верхнекарбонового оледенения на всех материках, так как в этом случае “при любом положении полюсов оледенение должно было охватить практически весь земной шар ... По-видимому его (оледенение (В.Ч.), нужно объяснять охлаждением всего земного шара” (Короткевич, 1972, стр.31,33). С.А.Ушаков и Н.А.Ясаманов в книге “Дрейф континентов и климаты Земли” (1984) также пишут о сильном переохлаждении Земли в пермско-карбоновый ледниковый период. Они указывают, что “высокая степень альбедо привела к сильному выхолаживанию территории. В свою очередь огромные пространства, занятые льдами, существенно увеличили среднее альбедо Земли. В результате этого Земля лишилась значительного количества тепловой энергии, что, в свою очередь, привело к снижению средних температур в низких широтах” (стр.161). Конечно, рассуждения Е.С.Короткевича, С.А.Ушакова и Н.А.Ясаманова логически справедливы. Если было великое оледенение, то и похолодание климата планеты должно быть весьма существенным, глобальным. Для периода грандиозного, “охватившего практически весь земной шар” пермско-карбонового оледенения имеется богатый палентологический материал, позволяющий реконструировать фактические ландшафты и климаты этой эпохи. Вот как описывает природную обстановку того времени В.П.Гаврилов (1986): “В каменноугольном периоде создались чрезвычайно благоприятные условия для развития наземной растительности. Теплый, влажный климат господствовал на значительных пространствах земного шара. Душная, тяжелая атмосфера царила в каменноугольных лесах. Формировались залежи каменных и бурых углей”. В среднем и позднем карбоне флора дифференцируется на вестфальскую (тропическую), тунгусскую и гондванскую умеренные флоры. Для последней (гондванской) характерны травянистые хвощевидные, кордаитовые и глоссортериевые растения. Но может быть максимальные фазы пермско-карбонового оледенения приходятся на пермский период? Однако, все, что известно о климатах перми явно не подтверждает теорию “великого оледенения”. В Геологическом словаре (1973) констатируется: “Климат пермского периода был вообще самым теплым из ранее господствующих в палеозое”. В условиях жаркого и сухого климата в одних районах Земли в высыхающих морях и обширных лагунах отлагались толщи эвапоритов, гипсов, ангидритов, солей, а в других царил жаркий и влажный климат и шло наполнение залежей каменных углей. В.П.Гаврилов (1986) также указывает, что в перми произошло резкое сокращение площади и глубины морских бассейнов, при увеличении площади суши, появились обширные жаркие пустыни, шло интенсивное накопление соленосных толщ. Близкие характеристики климата карбона и перми приводятся Г.И.Немковым, М.В.Муратовым, И.А.Гречишниковой и др. в книге “Историческая геология” (1974). Авторы пишут, что наиболее примечательной чертой каменноугольного периода, в том числе позднего карбона “является пышное развитие древесной растительности, покрывавшей все континенты” (стр.161). Каменноугольный период являлся также временем расцвета органической жизни и на море - временем расцвета одиночных и колониальных четырехлучевых кораллов, головоногих моллюсков, фузулинид, а также иглокожих, особенно морских лилий и морских ежей. Морская фауна изобиловала рыбами, а на суше процветали земноводные и, появившиеся в среднем карбоне, пресмыкающиеся. Согласно “Исторической геологии”, органический мир в начале пермского периода был во многом схож с органическим миром позднего карбона. В морях существовали те же группы беспозвоночных, а на суше продолжала произрастать пышная растительность. Во второй половине перми произошло сокращение морских бассейнов и началась аридизация климата и развитие жарких пустынных ландшафтов. Подобные характеристики растительного и животного мира на суше и на море и, соответственно, климатических обстановок пермско-карбоновой “ледниковой” эпохи, приведены в учебнике “Палеонтология” В.В.Друщица и О.П.Обручевой (1971), в десятках других изданий. Итак, с одной стороны изображается мощное покровное оледенение, охватившее почти всю сушу южного полушария и перешагнувшее через экватор в северное полушарие Земли, а с другой - массовое накопление каменных углей в карбоновый период (27% от мировых запасов) и почти такое же массовое углеобразование в пермский период (около 20% от мировых запасов). С одной стороны, снижение температур даже в тропических и экваториальных областях и дополнительное сильное охлаждение планеты от недоброго эффекта альбедо, а с другой - в это же время пышное развитие растительности, процветание морских теплолюбивых организмов, массовое строительство коралловых рифов в море и расцвет земноводных и пресмыкающихся на суше. Этих противоречий могло и не быть, если бы приматом в палеогеографии и климатологии были не гипотетические предположения об обширных оледенениях, а огромный фактический материал, накопленный палеоботаниками, палеонтологами, палеозоологами, геологами-угольщиками. Некоторые исследователи, чтобы как-то примирить ледниковые построения и пышное развитие растительности, пишут, что в южном полушарии преобладала глоссортериевая гондванская флора, более присущая умеренному климату. При этом указывается на однородность и “поразительное сходство глоссортериевых флор Индии, Антарктиды, Австралии, Южной и Центральной Африки” (Вахромеев, 1981). Однако, как указывает В.А.Вахромеев “никакие перемещения полюсов не способны объяснить эти явления, так как при любом их положении одна часть глоссортериевой флоры неизбежно окажется в ледниковых районах, а другая в экваториальной зоне”. Возникает и другая проблема. Констатируя, что площадь покровного оледенения в среднем и позднем карбоне “была чрезвычайно велика”, В.П.Гаврилов пишет, что это породило сомнение в возможности существования таких грандиозных ледниковых щитов, а некоторые ученые даже считают, что на Земле не хватило бы воды для формирования столь огромных ледяных масс (Гаврилов, 1986). Но дело не только в опасениях относительно достаточности водных ресурсов Земли. В перми, когда эти глобальные ледяные массы, не выдержав “жаркого и засушливого климата”, растаяли, следовало ожидать длительного и мощного плювиала и повышения уровня океана на сотни метров. Однако, вопреки гляциоэвстатической теории, произошло осушение морей, а вместо плювиала возникли обширнейшие пустыни. Для объяснения причины возникновения огромных ледниковых покровов, распространявшихся даже в тропические и экваториальные зоны того времени, высказано немало гипотез. Наибольшая значимость придается орографической гипотезе акад. Н.М.Страхова (1960), согласно которой оледенения развивались в горных условиях. “Когда стало ясным, - пишет Н.М.Страхов, - что ледники Индостана и Австралии принадлежат тропической зоне верхнего карбона (и нижней перми)”, толкование их в качестве равнинного материкового оледенения стало невозможным. “Единственно возможной оказывается трактовка индостанско-австралийских ледников в качестве оледенений горного типа, возникших в результате образования весьма высоких поднятий в верхнекарбоновой экваториальной зоне” (Н.М.Страхов, 1960, стр.181). Эта концепция вряд ли решает проблему по следующим причинам: а) в палеозое Индостан и Австралия развивались в платформенном режиме (Хаин, Сеславинский, 1991), что делает вопрос о возникновении высоких горных сооружений весьма проблематичным; б) гипотетические горные сооружения считаются снесенными денудацией в последующие периоды. Но такая трактовка не объясняет каким образом, на месте снесенных горных сооружений, на обнаженном докембрийском основании сохранились следы экзарационной деятельности ледника - штриховка и полировка скальных пород, а также тиллиты, ведь при разрушении и сносе гор в первую очередь должны быть уничтожены геоморфологические и геологические следы оледенений. Имеются и некоторые другие факты, способные вызвать весьма скептическое отношение к великому гондванскому оледенению. В первую очередь, это девонская кистеперая рыба целакант (латимерия), обитающая и поныне на шельфе у юго-восточных берегов Африки (впервые поймана у Ист-Лондона, затем у Коморских островов). Район обитания кистеперой рыбы находится как раз в области Натальского ледникового центра (Дю Тойт, 1957; П.Фурмарье, 1971). Известны также три вида двоякодышащих рыб, сохранившихся с девона и ныне обитающих в пресных водах Африки, Австралии, Южной Америки (Друщиц, Обручева, 1971). Словно в насмешку над ледниковой теорией, девонские кистеперые и двоякодышащие рыбы сохранились только в ледниковых областях и нигде больше. А это значит, что среда обитания в этих районах не претерпела резких изменений с девона до наших дней, и “живые ископаемые” благополучно пережили ледниковый период на месте. Не много ли неувязок и противоречий для общепризнанной теории великого оледенения? Несомненно, что палеонтологические, биогеографические данные резко восстают против этой теории, но главенствующими, направляющими и руководящими факторами оледенений оказались не они, а геолого-геоморфолоческие данные. Все дело в генезисе тиллитов, происхождении рельефа бараньих лбов, курчавых скал, штриховки и полировки кристаллических пород, серповидных знаков - признаков, используемых для доказательств огромного пермско-карбонового оледенения. Признаки те же, что и для четвертичного оледенения. Поэтому можно отослать читателя к главе 2, где, на примере Балтийского щита, приведены доказательства разломно-тектонического происхождения всех этих “экзарационных” типов рельефа. Это снимает вопрос о “следах экзарационной деятельности ледника” в пермско-карбоновое время. За последние годы многими исследователями получены основательные данные, показывающие, что тиллиты имеют тектоническое происхождение. Одна группа этих образований относится к олистостромовой формации, другая - к тектоническому меланжу (тектоническому месиву, тектоническим брекчиям) (Пейве и др., 1958; Лукьянов и др., 1975; Леонов, 1981; Буртман, 1973; Александров и др., 1980). Ниже приводится характеристика этих отложений и механизм их формирования (в основном по работе А.В.Лукьянова, М.Г.Леонова, И.Г.Щербы “Олистростромовая формация и вопрос о псевдотиллитах” (1975). Олистрома представлена несортированными отложениями, состоящими из мелкоземистой массы, в которую включены окатанные, полуокатанные и угловатые обломки различных по составу и размеру пород. Края глыб, валунов, других обломков нередко сглажены, пришлифованы, на их поверхности можно наблюдать штрихи, борозды и зеркала скольжения. Мощность олистостромовых толщ иногда достигает сотен метров. Наряду с олистостромами, сформировавшимися за счет тектонического и оползневого разрушения осадочных пород (в первую очередь молассовых толщ) большое место занимают олистостромовые толщи, формировавшиеся посредством тектонических процессов. В разных регионах Земли установлена прямая связь - путем прослеживания по простиранию и разрезу олистолитов (называемых также тиллоидами) с тектоническими пластинами (Лошманов, 1991; Лукьянов и др., 1975; Леонов, 1981; Сатиан, 1984; Гасанов, 1985). Установлено, что олистостромы данного типа формируются как за счет разрушения фронтальных уступов тектонических покровов, так и за счет выдавливания из-под покровов сильно брекчированных пород, превращенных в меланж или тектоническое месиво (термин В.С.Буртмана, 1973). Процессы тектонического дробления, выдавливания брекчий по разломам, тектоно-механическое перемешивание продуктов разрушения осадочных и кристаллических пород вело к формированию “тектонического месива”, к формированию меланжа. Последний в крупных разломных зонах достигает многих десятков метров мощности и представляет собой несортированную хаотическую смесь глыб, валунов, других обломков с мелкоземистым материалом. Важно отметить, что для крупнообломочного материала характерна его тектоно-динамическая обработка, глыбы, валуны, гальки, нередко сглажены, пришлифованы, имеют уплощенную, утюгообразную форму, покрыты штрихами и бороздами (в том числе разноориентированными). На плоскостях глыб, валунов наблюдаются зеркала скольжения (Лукьянов и др., 1975; Белоусов, 1971, 1985; Буртман, 1973; Александров и др., 1980; Леонов, 1981; Лошманов, 1991). Нетрудно заметить, что рассматриваемые толщи меланжа, “тектонического месива” являются литологическими аналогами тиллитов . Находит объяснение и такой аргумент сторонников ледникового генезиса тиллитов, как присутствие в них чуждых, эрратических глыб и валунов. Работами указанных и ряда других исследователей установлено, что тектонический транспорт крупнообломочного материала в меланжах и тектоническом месиве достигает десятков, а иногда и сотен километров (Лукьянов и др., 1975; Лошманов, 1991; Леонов, 1981; Буртман, 1975; Александров и др., 1980). Не случайно поэтому, что, как это ныне установлено, классические пермско-карбоновые тиллиты серии Двайка формировались в обособленных тектонических депрессиях и грабенообразных прогибах, где их мощность достигает 300 и даже 500 м (Ронов, Хаин, Сеславинский, 1984). При этом изборожденные, исштрихованные подстилающие породы являются тектоническими зеркалами скольжения. Приуроченность толщ пермско-карбоновых тиллитов к разломно-тектоническим зонам, активным в указанный период, неоднократно подчеркивается в книге “Зимы нашей планеты” (1982). Часть олистостромовых толщ накапливалась в море. Таким образом, имеются весьма веские основания к пересмотру генезиса тиллитов, переводу их в разряд тектоно-механических образований (меланжей, олистостром, тектонического месива). Подмеченное многими учеными совпадение эпох “великих оледенений” с перестройкой тектонического плана Земли, с эпохами орогении, находит свое естественное объяснение, если учесть, что толщи тиллитов являются индикаторами глобальных тектонических процессов. Что касается позднепалеозойского ледникового периода, то признание тектонического генезиса тиллитов позволит освободиться от явных неувязок и противоречий, вызываемых необходимостью совмещать теорию суперпокровных оледенений с теплым и влажным климатом карбона и аридно-пустынным жарким климатом перми - природной обстановкой действительно существовавшей в то время на огромных пространствах суши. Имеющиеся 200 гипотез о причинах оледенений посвящены в основном четвертичному ледниковому периоду, развивавшемуся в полярных и умеренных поясах Земли. Дело с пермско-карбоновым оледенением выглядит гораздо сложнее, так как оно перекрывало мощным ледяным панцирем не только материки южного полушария, но и захватывало тропическую и даже экваториальную зону того времени (Н.М.Страхов, 1960; Л.Б.Рухин, 1962; П.Фурмарье, 1971). П.Фурмарье в книге “Проблемы дрейфа континентов” (1971), на основе анализа данных о пермско-карбоновом оледенении, пришел к следующему выводу: “Значительное пространственное распространение области оледенения, переходящей за экватор к северу, позволяет считать, что это было исключительным явлением в геологической эволюции земного шара ...” (1971, стр.150). “Все это вынуждает сделать вывод, - пишет далее П.Фурмарье, - что гондванское оледенение обусловлено каким-то исключительным фактором, совершенно иным, чем дрейф континентов или смещение оси полюсов” (стр.156). Загадочность и необъяснимость явления открывает широкие возможности для выдвижения новых гипотез о причинах ледниковых периодов.
|
|
Ссылка на книгу: Чувардинский В.Г. О ледниковой теории. Происхождение образований ледниковой формации. - Апатиты, 1998. (“Мурмангеолком”, ОАО “Центрально-Кольская экспедиция”). 302 c.
|
![]()