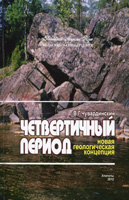| ||
|
| ||
|
Ледниковые покровы весьма устойчивы и не угрожают случайными наступлениями ледниковых эпох и всемирных потопов П.А.Шумский
Глава 5. Вопросы палеогеографии четвертичного и пермско-карбонового оледенения
О тепловой устойчивости и темпах деградации ледниковых покровов Известно, что Антарктический ледниковый покров начал формироваться еще в олигоцене более 30 млн. лет назад, а ледниковый щит, близкий к современному, образовался на рубеже среднего и позднего миоцена – 11-14 млн. лет назад (Гляциологический словарь, 1984; Эндрюс, 1982; Основные проблемы палеогеографии Арктики, 1983).
Ледниковый покров Гренландии образовался в среднем миоцене, а А какова была продолжительность последней ледниковой эпохи (осташковской, валдайской, висконсинской) в Европе и Северной Америке? Согласно существующим схемам, общая продолжительность этой ледниковой эпохи в Европе не более 14-16 тыс. лет. Так, по геохронологической шкале, разработанной большой группой ленинградских ученых (М.Е. Вигдорчик и др.), последнее валдайское оледенение началось 24 тыс. лет назад, полная деградация ледника – 10.5 тыс. лет назад. В монографической сводке, посвященной хронологии последней ледниковой эпохи, Н.С. Чеботарева и И.А. Макарычева определяют начало валдайского оледенения около 24 тыс. лет назад, максимальную фазу 18-17 тыс. лет назад, а период деградации ледниковых масс 16-9.4 тыс. лет назад. Последняя ледниковая эпоха в северной Америке – висконсинская - также укладывается в этот временной интервал. Оледенение началось 26 тыс. лет назад, достигло максимума 18 тыс. лет назад и закончилось около 7 тыс. лет назад (Флинт, 1963; Дайсон, 1966; Эндрюс, 1982). Итак, за время, отпущенное палеогеографами и составляющее 10-15 тыс. лет для Европы и 18 тыс. лет для Северной Америки огромные массы льда толщиной 3-4,5 км надвинулись на равнины этих континентов, сформировали толщи ледниковых отложений, разнообразные формы рельефа и исчезли. При этом, чтобы сошелся дебит с кредитом, на таяние ледника надо отпустить не менее половины этого времени, т.е. 7-9 тыс. лет. На фоне этих удивительных превращений неправдоподобно выглядит консервативность, стационарность Антарктического и Гренландского ледниковых щитов, существующих беспрерывно многие миллионы лет. Более того, размеры этих покровов почти не менялись последние несколько миллионов лет. Эта парадоксальность становится еще рельефнее при сравнении Гренландского ледникового покрова с огромным Лаврентийским ледниковым щитом, покрывавшем в последнюю ледниковую эпоху Канаду и часть США.
Будучи по объему
льда в 11.5 раза меньше Лаврентийского покрова
Предусмотренные
хронологические рамки продвижения ледниковых масс до очерченных границ
требует скоростей движения льда в 100-200 раз больших, чем это
установлено для ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии. Напомним, что
в Антарктиде в районе ст. Восток расстояние Принятые скорости деградации оледенений также не находят даже отдаленных аналогов в природном гляциологическом процессе. В связи с этим, правомерен вопрос: какова научно обоснованная продолжительность распада и исчезновения ледниковых покровов типа Лаврентийского (Канадского), а также Гренландского и Антарктического? Такие расчеты на основе математического моделирования выполнили П.А. Шумский и М.С. Красс (1983). Их метод основан на эволюционной модели разогрева ледниковых покровов в условиях общих климатических потеплений. Принимая приращение положительных температур равным 5 % и прогнозируя это потепление на десятки тысяч лет вперед, они получили следующие результаты.
Гренландский
ледниковый покров остается термически устойчивым: 5% увеличение
температур не приводит к разогреву, хотя температура льда на дне
становится близкой к точке плавления. При допускаемом 5 % климатическом
отеплении Антарктического ледникового щита, происходит отепление его
нижних горизонтов льда до температур, близких к плавлению. За период
времени от 15 до 40 тыс. лет в разных частях ледникового покрова
образуется слой тающего льда толщиной от 100 до 240 м. При этом, для
того, чтобы этот слой нагретого льда растаял на 25 %, дополнительно
потребуется не менее Для того чтобы добиться термической неустойчивости Лаврентийского и Гренландского ледников, П.А. Шумский и М.С. Красс при том же 5% приращении температур рассчитали другую математическую модель, в которой было увеличено в 2 раза напряжение сдвига на ледниковом ложе и, соответственно, в 16 раз увеличен параметр тепловыделения, ведущей к неустойчивости льда. Это дало возможность перевести данные ледниковые покровы из разряда термически устойчивых в разряд неустойчивых. Этим достигается, что за 60 тыс. лет в донной части покровов образуется слой льда толщиной 200 м, разогретого до температуры таяния. В последующем за дополнительные 60 тыс. лет этот слой растает на 25 %. Как подчеркивает П.А. Шумский и М.С. Красс это не означает механическую неустойчивость ледниковых покровов, и они могут существовать в режиме донного таяния неопределенно долго, хотя тенденция к деградации льдов, к их механической неустойчивости сохраняется.
Итак, можно
констатировать, что эволюционные математические модели, основанные на 5%
приращении положительных температур, приводят к разогреву
Антарктического ледникового щита, к образованию в его придонной части
слоя льда мощностью 100-240 м с температурой плавления. Но при таких
условиях не происходит разогрева Гренландского и Лаврентийского
покровов, они остаются термически устойчивыми. Лишь при увеличении
напряжения сдвига (какие природные силы будут обеспечивать это
увеличение не известно), сильном изменении параметра тепловыделения и
подбора необходимого для решения задачи параметра адвекции, в новой
модели Лаврентийского ледникового покрова и в Гренландском леднике за 60
тыс. лет образуется Загадочным остается тот факт, что ледниковый покров Гренландии при таком приращивании температур и других параметров остался в первозданном виде и зримо существует, а его сосед – могучий Лаврентийский ледник напрочь исчез. Более того, в Гренландском леднике не выявлено даже следов его частичного таяния. Самое место повторить выводы Дж. Эндрюса и И.А.Зотикова о стационарности Гренландского ледника, о его беспрерывном существовании в последние несколько миллионов лет. А был ли ледниковый мальчик? Почему эволюционное (климатического типа) отепление ледниковых щитов с поверхности в итоге приводит к отеплению нижних горизонтов льда, вплоть до образования слоя тающего льда, а не ведет к процессу таяния с поверхности? Это объясняется следующими причинами: 1. Температуры льда близ ложа ледниковых щитов выше, чем на их поверхности, что связано с геотермическим потоком тепла, наиболее эффективно сказывающимся в больших по мощности ледниковых щитах. 2. При разогреве ледниковых щитов сверху на начальном этапе идет повышение температуры верхних слоев льда, но затем, по мере проникновения температурного возмущения (за счет адвекции) вглубь, происходит нарастающий по времени разогрев придонных слоев льда, где и сосредотачиваются процессы таяния ледника, ведущие к его тепловой неустойчивости (Шумский и Красс, 1983). Такой механизм отепления ледников принимается и в моделях других исследователей (У. Патерсона, Ю. Нитсана, Дж. Кларка). Но скорости отепления моделируемых и математически рассчитанных явлений явно противоречат принятым палеогеографическим схемам дегляциации гипотетических осташковского и висконсинского оледенения. Только для того, чтобы нагреть определенный слой льда материкового ледника до точки плавления и на четверть растопить его, требуется 100-120 тыс. лет. Для дальнейшего полного таяния ледниковых масс при тех же 5% приращениях температуры необходимо еще несколько сотен тысяч лет. А палеогеографы предусматривают на таяние своего ледника всего 7-9 тыс. лет (!). Но может быть, было бы проще увеличить цифру прироста положительных температур, увеличить масштаб климатического потепления? Такой вариант тоже был математически рассчитан П.А. Шумским и М.С.Крассом, и показал, что более сильное общеклиматическое потепление (посредством принятия в модели безразмерного увеличения положительных температур и, соответственно, увеличение интенсивности адвекции – в модели в 100 раз) действительно сокращает время разогрева льда, но не столь значительно, как можно было ожидать, а всего на 25%. Кроме того, оказалось, что безразмерное повышение температур заключает в себе опасность получение абсурдных результатов, что и подтвердилось: в донной части Антарктического ледника расчетная температура оказалась равной +13°С (в расчетной талой воде можно даже поплавать, хотя и недолго). Безразмерное повышение температур для целей быстрого таяния Европейского и Лаврентийского ледниковых покровов вызывает большой риск одновременной деградации Гренландского и Антарктического покровов.
Выводы Математическое моделирование показывает, что гипотетический ледниковый покров Северной Америки – огромный Лаврентийский ледниковый щит не поддается разрушению и исчезновению при 5% приращивании плюсовых температур, даже в течение многих сотен тысяч лет. И только, применив модель безразмерного увеличения положительных температур, можно сдвинуть с места проблему исчезновения гипотетических ледниковых покровов. Но при такой математической модели должны растаять и исчезнуть и реальные Гренландский и Антарктический ледниковые покровы. Как выйти из этого научно-схоластического тупика? Видимо, сторонникам ледниковизма требуется принять меры (в научных трудах, в резолюциях совещаний) по ограждению Антарктического и Гренландского ледниковых покровов от безразмерного повышения температур и всю силу теплового воздействия направить на требуемое исчезновение четвертичных ледниковых покровов. Многие ученые полагают, что останавливаться на рассмотрении, а тем более критики, одного последнего оледенения неправильно и недопустимо – ведь ледниковых эпох было много. Да это так, в трудах ученых, к примеру, на Русскую равнину ледники, по разным данным, надвигались от одного до 4-6 и даже 17 раз (Зубаков, 1986) И за каждым оледенением стоят научные школы, которые ревностно отстаивают количество ” своих” оледенений, их распространение – в том числе на шельфе арктических морей. И не зря. Каждая публикация, даже тезисы ученых упомянутых школ финансируются денежными фондами. Кратко коснусь научной деятельности одной из главных научных школ – школе МГУ, видным представителем которой является А.А. Свиточ. Ученый и его коллеги по школе утверждают, что современные ледниковые покровы Гренландии и Антарктиды являются остатками, фрагментами великого четвертичного оледенения. Вот что пишет А.А. Свиточ в своей недавней статье (2008): «Современные ледники Антарктиды и Гренландии – это сохранившиеся крупные фрагменты континентальных покровов четвертичных оледенений». Они существуют миллионы лет и попали в разряд остатков. Ледниковая теория и здесь распределяет приоритеты! Такая концепция позволяет задать вопрос школе МГУ и другим научным школам: почему остатки, фрагменты четвертичного оледенения – льды Гренландии и Антарктиды не начинены глыбами и валунами и имеют лишь мизерные включения пылевидного, мелкодисперсного вещества? Почему эти мощнейшие льды за многие миллионы лет своего существования не выполнили и тысячной части грандиозной геологической работы, которая пала на долю четвертичных ледниковых покровов и которую они (в трудах ученых) успешно выполнили: на сотни метров вглубь раздробили кристаллические щиты, включили в свои тела несметный объем валунно-глыбового материала и перенесли его на тысячи и тысячи километров, вспороли на глубину в сотни метров и даже первых километров платформенный чехол, исторгли из его глубин громадные отторженцы и переместили их на многие сотни километров? И все это за ничтожно короткое время. Почему Гренландские и Антарктические льды ограничились аккумуляцией вулканического пепла, да космической пыли и почему придонные пласты этих мощнейших ледников не участвуют в общем движении покровного льда и мертвым грузом лежат на месте уже многие сотни тысяч лет, предохраняя доледниковое ложе от выветривания? Ученые разных школ удивительно единодушны в разрешении этой природной загадки. По их мнению, четвертичные ледники в своей донной части имели смазку, и она способствовала их быстрому движению, а также экзарации, вспарыванию и выпахиванию подстилающих пород. Что это была за смазка? Скорее всего, скипидарная, так как только эта жидкость способна придать четвертичным ледникам требуемую динамику и ускорение, хотя и лихорадочное – с многочисленными остановками и рывками вперед – с так называемыми ледниковыми осцилляциями. Заключая этот раздел, следует еще раз подчеркнуть значимость выводов выдающегося отечественного гляциолога Петра Александровича Шумского (1915-1988) об устойчивости ледниковых систем. По П.А. Шумскому (1978), ледниковые щиты, достигнув в своем развитии равновесия, поддерживают стационарность, реагируя на изменение природных условий посредством релаксационных автоколебаний. ”Ледниковым куполам не нужно внезапно разрастаться на тысячи километров до материковых размеров и исчезать : чтобы приспособиться к малым колебаниями условий достаточно немного изменить форму своей поверхности. Ледники и ледниковые покровы весьма устойчивы и не угрожают случайными ледниковыми эпохами и всемирными потопами” (Шумский, 1978, с.108-109) В последующих работах П.А. Шумский неоднократно указывал на ошибочность распространенных представлений о мнимой имманентной неустойчивости ледников, на ошибочность идей о быстром разрастании и таянии ледниковых покровов. Этим и следует руководствоваться, прежде чем принимать на веру учение о ледниковом периоде.
Вопросы гляциоизостазии Фенноскандии Вопрос о сводовом поднятии Фенноскандии был поставлен более 100 лет назад А.П. Карпинским. Базируясь на известных в то время данных, ученый рассматривал Балтийский кристаллический щит в качестве Фенноскандинавского горста, вследствие поднятия которого возникли крупные сбросы и тектонические впадины Балтийского и Белого морей, Финского залива, Ладожского и Онежского озер. В дальнейшем сложилось так, что тектонические воззрения на природу поднятия Фенноскандии на длительное время уступили место взглядам о всплывании этой крупнейшей европейской структуры в результате снятия ледниковой нагрузки. Эту гляциоизостатическую теорию выдвинули и развили скандинавские ученые Г. де Геер, А. Хегбом, В. Рамсай, В. Таннер, М. Саурамо, она была поддержана И. Доннером, М.А. Лавровой, К.К. Марковым, С.А. Яковлевой, В.К.Гуделисом, А.А. Никоновым. Некоторые крупные геологи время от времени подчеркивали, что дело не в ледниковых нагрузках, а в общей направленности тектонического развития Фенноскандии. Еще А.Д. Архангельский писал, что поднятие Балтийского щита происходило в течение очень длительного геологического времени, и голоценовые движения всего лишь наследуют древнее тектоническое его поднятие. На весьма длительную – с позднего докембрия - тенденцию к воздыманию щита указывали Г. Штилле, М.М. Тетяев, а уже в наше время В.В. Белоусов и Н.И. Николаев. Тем не менее, гляциоизостатическая гипотеза обрела необычайную популярность. Это компенсационное поднятие разные ученые оценивают в 500-700 м, 400 м и даже 1200-1300 м. Какие исходные данные были положены в эти расчеты? Прежде всего, считается, что Фенноскандия в четвертичное время была покрыта ледником толщиной 3-3,5 км. Путем довольно прямолинейных арифметических действий (исходя из плотности льда, плотности кристаллических пород, слагающих литосферу, а также упомянутой толщины льда) вычислялось, что земная кора должна прогнуться под тяжестью льда на 1/3 толщины ледника, т.е. на 1000-1200 метров. После же таяния льда земная кора должна выпрямиться и подняться на такую же высоту. Почему столь сильно разнятся цифры поднятия у каждого автора, каких-либо разъяснений не приводится, разве что ссылаются на разную мощность ледника. Надо, однако, отметить, что каких-либо данных о вязкости астеносферы, о горизонтально-тектонической напряженности земной коры авторы таких построений не учитывают, как не учитывают рифтогенных процессов на дне Балтийского моря. Но имеются наблюдения по поднятию берегов за промежуток времени с 1887 по 1948 гг. и они показывают, что среднегодовое поднятие составляет от 1 до 9 мм в год, а по другим данным - до 11 миллиметров в год. В целом, эти данные указывают на большую скорость поднятия западного берега Ботнического залива, чем других участков Балтийского моря (южное побережье которого даже опускается со скоростью 2 мм/год, словно с него до сих пор не снята ледниковая нагрузка). Результаты наблюдений на берегах Ботнического залива были экстраполированы на всю Фенноскандию, и соответственно этому были построены концентрические кривые (изобазы), отражающие равномерное сводовое поднятие в поздне-последниковое время с центром поднятия в районе упомянутого залива. Наибольшей известностью пользуется схема сводового поднятия де Гера - Хегбома. Устои гляциоизостатической концепции были основательно расшатаны работами Н.И. Николаева (1967, 1988) который пришел к следующим выводам: 1) гляциоизостатическая гипотеза нуждается в пересмотре; 2) ”схема де Гера - Хегбома, просуществовав более 50 лет, сыграла роль некоего гипноза, так как при сопоставлении геологических данных с геофизическими, в их толковании всегда исходили из закономерностей, заключенных в их графике – единого свода, обусловленного компенсационным всплыванием земной коры”; 3) ”схема равномерного сводового гляциоизостатического поднятия де Геера – Хегбома не учитывает блокового строения земной коры, неравномерного проявления тектонических движений ”. Проанализировав имеющиеся данные, Н.И. Николаев (1967) составил карту суммарных поздне - послеледниковых поднятий Фенноскандии и сделал заключение, что поднятия ”не образуют правильного свода, а проявляются дифференцированно по структурным элементам, сформировавшихся в неотектонической этап развития ”. Из ”Схемы блокового строения земной коры Фенноскандии» следует, что земная кора имеет крупноблоковое строение и состоит из горстов и грабенов”. Тектонические опускания соответствуют впадинам Белого и Балтийского морей, Кандалакшско – Ботническому и Кандалакшскому грабенам, а поднятия – Скандинавским горам и горстовым массивам Кольского полуострова. “Имеющиеся данные позволяют бесспорно убедиться в несостоятельности представлении о компенсационном сводовом вскалывании Балтийского щита”. Эти выводы Н.И. Николаева были подтверждены Г.С. Бискэ (1970), которая на материалах изучения рельефа и неотектоники Карелии и Финляндии пришла к выводу, что ”Фенноскандия испытывает не куполообразное поднятие, а представляет собой сложную мозаику участков с достаточно самостоятельным характером движений ”. К близким выводам на примере Кольского полуострова пришли С.А.Стрелков и В.И.Богданов, а также Г.Ц.Лак и А.Д.Лукашов на материалах по Карелии. Ранее с критикой классических гляциоизостатических положений выступили финские геологи М. Харме и Х.Парма, которые считают, что активную роль в поднятиях центральной части Балтийского щита играли тектонические процессы. Перечисленные выше положения и выводы Н.И.Николаев обобщил и развил в монографии ”Новейшая тектоника и геодинамика” (1988), в которой еще раз указал на несомненно тектоническую природу современных движений на Балтийском щите. Итак, можно констатировать, что многие исследователи (не отрицающие четвертичного оледенения Фенноскандии) пришли к выводу, что вертикальные – глыбовые и сводовые поднятия на Балтийском щите объясняются с позиций общей геотектоники и геодинамики, а гляциоизостатические явления, если они и были, занимают относительно скромное место. Однако, многие сторонники гляциоизостатической гипотезы по-прежнему настаивают на ее правильности.
Уже после
основополагающих работ Н.И. Николаева, показавших ошибочность
гляциоизостатических построений, вышла монография А.А.Никонова (1977)
которая в значительной своей части посвящена вопросам гляциоизостазии
Фенноскандии. Это, пожалуй, хронологически последняя сводная работа, в
которой активно отстаивается положения об огромном гляциоизостатическом
всплывании Балтийского щита. Основой аргументов А.А.Никонова являются
довольно старые данные о скоростях поднятия берегов Балтийского моря, а
также известные построения Г. де Геера, А. Хегбома, И.Доннера, М.
Саурамо. Ученый пришел к следующим выводам: Четвертый пункт А.А. Никонов считает особо важным и специально подчеркивает, что с его точки зрения, резкие различия в скоростях поднятия Украинского и Балтийского щитов являются «серьезнейшим и решающим аргументом в пользу именно гляциоизостатической природы движений в области недавнего покровного оледенения” (1977, с.63). Доводы А.А. Никонова, по существу, уже были развенчаны Н.И. Николаевым, и автор монографии по гляциоизостазии Фенноскандии не приводит каких-либо новых данных в пользу своей точки зрения. За исключением последнего, четвертого пункта. Но действительно ли скорости современного поднятия на Украинском щите на порядок, т.е. в 10 раз меньше, чем на Балтийском щите? Нет, они вполне сопоставимы с ними. На ”Карте современных вертикальных движений Северной и Восточной Европы”, составленной Д.А. Лилиенбергом и в виде схемы, помещенной в книгу А.А. Никонова, на Украинском щите отчетливо выделена область куполообразного поднятия со скоростями современных вертикальных поднятий 6-10 мм/год. На скорости поднятия Украинского щита, достигающие 10 мм/год, также указывает Н.И.Николаев(1988). Как видим, скорости практически те же, что и на Балтийском щите, причем весьма близки к скоростям поднятия «в центре оледенения» — 9-9,5 мм/год. При этом надо подчеркнуть, что максимальное сводовое поднятие на Украинском щите находится в той области щита, которая по общепринятым схемам не подвергалась даже днепровскому оледенению, не говоря уже о последнем, вюрмском леднике, который не принято продвигать до Украинского щита. Что касается измерений скорости современного поднятия берегов Балтийского моря, то эти данные являются полезными, с ними вполне можно согласиться, но с некоторыми замечаниями: а) не следует распространять величины скоростей поднятий, полученных на берегах, на дно Балтийского моря (и Ботнического залива), где подобных замеров не проводилось, а тем более на всю Фенноскандию; б) полувековые наблюдения за уровнем моря не более чем мгновения в истории голоцена, не говоря уже о четвертичном периоде. Поэтому не следует экстраполировать эти наблюдения как закономерную тенденцию к воздыманию берегов и всей Фенноскандии. Следующий период наблюдения может констатировать смену знака движений (что, впрочем, уже зафиксировано на некоторых участках балтийских берегов); в) дно Ботнического залива и центральные впадины Балтийского моря в структурном отношении представляют собой возрожденные рифейские авлакогены, тектонически-активные в плиоцен-четвертичное время (Милановский, 1983). Проработка материалов по сейсмичности и неотектоники района Ботнического залива показывает сопряженность сейсмических явлений с разломами, что свидетельствует о тектонической природе поднятий и опусканий земной коры. Имеются и другие данные, подтверждающие сказанное. Так, Р.Н.Валеев (1978) в монографии «Авлакогены Восточно-Европейской платформы» приходит к выводу, что факты «совпадения современной котловины Балтийского моря и его заливов с древними грабенами, активные новейшие опускания с образованием на дне моря узких троговых депрессий на фоне общих поднятий Балтийского щита свидетельствует о современном возрождении после огромного перерыва Ботническо-Балтийского авлокогена». На основе геолого-структурных и геофизических данных, Р.Н.Валеевым составлена «Тектоническая схема Ботническо-Балтийского авлакогена», из которой следует, что на дне центральной и южной части моря, а также в контуре Ботнического и Финского заливов развита система разломов, активных в новейшее время. Р.Н. Валеевым также определены дизъюктивные границы новейших поднятий и опусканий, которые приурочены к осевым частям грабенов Ботнического залива и центральной впадины Балтийского моря. Для понимания природы и механизма воздымания Фенноскандии важное значение имеют исследования Ф.Н. Юдахина (2002). Он пришел к выводам, что под Балтийским щитом существует астеносферная линза и идет процесс проскальзывания верхней хрупко-жесткой коры по нижней псевдопластичной под влиянием сильных горизонтальных напряжений, приводящих как к общему поднятию, так и разломообразованию. Причина горизонтального сжатия, по Юдахину, – активные новейшие спрединговые явления в зоне Срединно-Атлантического хребта. В последние 10-15 лет ученые уже без особого энтузиазма пишут о прогибании под ледником Фенноскандии и Балтийского моря. Стали учитывать материалы по сейсмичности впадины Балтики, указывается на роль неотектоники в поднятии и опускании берегов, скромнее стали цифры гляциоизостазии – фигурируют уже не сотни метров, а только десятки метров опусканий, вызванных ледником. В работе Р.Г.Гарецкого, Р.Е.Айсберга и А.К.Карабанова (1999) приводятся доказательства новейшего тектонического развития впадины Балтийского моря, в его пределах наблюдается чередование тектонических горстов и грабенов. Гляциоизостатическая гипотеза сходит на нет, но очень неохотно и медленно. Теоретически можно допустить влияние ледниковой нагрузки на земную кору, но изучать эти явления следует в районах, где мощные ледниковые покровы действительно существуют миллионы лет – в Антарктиде и Гренландии.
Материалы палеонтологических и зоологических исследований выступают резко против гляциализма, против ледниковой гипотезы. И.Г. Пидопличко
При предполагаемом сплошном оледенении севера Европы условий для выживания растений и животных не могло быть ни в рефугиумах, ни на «нунатаках». Концепция «нунатаков» - своеобразная ошибочная подстройка под ледниковую гипотезу. И.Ф. Удра
В угоду гляциалистической концепции приходится самым жестоким образом калечить флористические факты. М.В. Клоков
Черты четвертичной палеогеографии. Настало время, когда общепринятые критерии и признаки четвертичных покровных оледенений, вместо того чтобы привычно являться символами ледниковой теории, ее устоями, стали выступать против ледникового учения, стали развенчивать его. Самые наглядные, яркие признаки выпахивающей и срезающей деятельности покровных оледенений — бараньи лбы, курчавые скалы, полировка и штриховка кристаллических пород, шхеры, озерные котловины, фиорды – оказались производными новейших разломно-тектонических процессов. С разломно-складчатыми явлениями связано формирование озов, конечно-моренных гряд, друмлинов – тех форм рельефа, которые тоже служили оплотом ледникового учения. А как быть с валунами и глыбами гранитов, гнейсов, других пород, которые образуют валунно-глыбовую формацию на кристаллических щитах и в небольшом количестве участвуют в строении четвертичных отложений на платформах? Не надо забывать, что именно с валунов начиналась ледниковая гипотеза. Теперь выяснилось, что валунно-глыбовый материал на кристаллических щитах в своей основе имеет разломно - тектоническое происхождение, является результатом трещинно-разрывного дробления коренных пород и вдольразломного перемещения части крупнообломочных масс. Отсюда полировка плоскостей валунов и глыб, штрихи и борозды на них, утюгообразная и плоско-выпуклая форма. Прежний «надежный» признак оледенений оказался признаком тектоно-динамической обработки глыб-валунов в шовных зонах разломов, оказался признаком вдольразломного перемещения валунов в составе тектонической брекчии трения. Сторонники ледникового учения часто указывают на ледниковые покровы Антарктиды и Гренландии, аппелируя к ним: «Как так можно отрицать оледенения, когда вот они могучие действующие ледники, наглядные примеры покровного оледенения четвертичного времени». Но как раз эти мощные ледниковые покровы стали неожиданно выступать против канонов ледниковой теории, против приписываемой ледникам фантастически огромной геологической деятельности. Наземные исследования ледниковых покровов, сквозное их разбуривание по Международным проектам, тщательное изучение ледниковых кернов, показали, что в ледниковых покровах не содержится даже единичных валунов, в них имеются лишь включения пылевидно-мелкозернистого вещества, в основном представленного вулканическим пеплом. Оказалось, что покровные льды не в состоянии перемещать валуны, включать их в «придонную морену», которая оказалась фикцией. Ледники не способны выпахивать, срезать, дробить коренные породы. И одну функцию они выполняют хорошо — предохраняют доледниковую геологическую поверхность от выветривания: придонные слои льда обездвижены и мертвым грузом лежат на месте сотни тысяч лет. Никто не ожидал такого подвоха от ледниковых покровов!
Ледниковое учение зарождается в Европе Один из ярких основоположников ледниковой теории, швейцарский зоолог Луи Агассис в 1840 году в своем трактате о великих ледниках писал: «Появление чудовищных ледниковых покровов означало уничтожение органической жизни на земной поверхности. Территория Европы, которая до этого была покрыта тропической растительностью, внезапно исчезла под бескрайними массивами льда, погребавшими все – равнины, озера, возвышенности. Течение рек прекратилось, наступило безмолвие смерти» Натуралисты 19 века и современные ученые восприняли такие трактаты, как своего рода триумфальное шествие ледникового учения. Но при этом как - то упускается из вида, что «уничтожение органической жизни на Земле» требует после каждого страшного оледенения возрождения жизни на Земле. С чего оно может начаться? С самых простейших организмов, хорошо еще, если с табулятов и кольчатых червей. И это еще в том случае, если планета каким-то чудом сможет выйти из оледенелого состояния. Так на чем было основано всеземное оледенение зоолога Луи Агассиса, ботаника Карла Шимпера, натуралиста Жана Перродена? На находках штрихованных валунов в альпийских долинах (о тектоническом происхождении таких валунов я уже писал) и на фактах нахождения глыб и валунов на поверхностях альпийских ледников. Эти наблюдения и действительные факты переноса альпийскими ледниками валунно-глыбового материала и легли в основу страшных покровных оледенений. Не были учтены важнейшие обстоятельства, а именно: на поверхность альпийских горно-долинных ледников крупнообломочный материал в изобилии поступает за счет обрушения нависающих горных склонов, за счет осыпей и лавинного сноса каменного материала. В покровных ледниках – в Гренландии и Антарктиде такого не происходит. Нависающих горных склонов – поставщиков глыб и валунов - на территории этих ледниковых покровов практически не имеется (за исключением выступающих надо льдом вершин Трансантарктического хребта в Антарктиде, и редких нунатаков в Гренландии). На равнинах Европы и в Фенноскандии горных хребтов, прорывающих 3-4 километровую толщу льда не предвидится. Чтобы осуществить ледниковый перенос валунов из Фенноскандии нужно возводить на Балтийском щите и Восточно-Европейской платформе новые Гималаи для организации там больших горно-долинных ледников. Конечно, за прошедший век представления о полном уничтожении в ледниковый период растительности и животного мира изменились. Было достигнуто понимание, что тропические и, даже, умеренные зоны оледенению и страшному похолоданию не подвергались, и животный и растительный мир никуда не исчезал. Более того, появились основательные данные, что даже на территориях, якобы покрывавшимся покровными льдами (Фенноскандия, европейские равнины), мирно паслись и размножались мамонты, другие представители мамонтовой фауны. Вот что осторожно писали в своей книге «Физическая география СССР» (1958) географы Ф.Н. Мильков и Н.А. Гвоздецкий: «В настоящее время палеогеографические исследования (преимущественно изучение остатков ископаемой фауны и флоры) не дают оснований говорить о существовании в ледниковую эпоху необычайно суровых климатических условий. Наоборот, имеющиеся палеоботанические, палеозоологические и археологические данные свидетельствуют, что климат ледниковой эпохи хоть и был более холодным и более континентальным, чем сейчас, но не настолько, чтобы в непосредственной близости от ледника не могла обитать богатая фауна и произрастать не только хвойные, но и обедненные широколиственные леса». Стало быть, климат «ледниковых эпох» был совсем не ледниковый, скорее он напоминал современный климат и растительность Сибири, причем не самых суровых ее районов. К настоящему времени опубликованы работы ботаников и зоологов, из которых следует, что растительность северо-таежного типа и лесотундро-степи занимали обширные территории Евразии.
Особый интерес для
решения рассматриваемой проблемы оледенений Фенноскандии представляет
Белое море, впадину которого, равно как и прилежащую сушу, принято
заполнять и перекрывать мощными материковыми льдами толщиной до 4(!) км.
Согласно этим представлениям последнее покровное оледенение,
уничтожившее в Белом море все живое, происходило в валдайскую (вюрмскую)
эпоху, т.е. в период порядка 26-10 тыс. лет назад. Однако, наличие в
Белом море большого количества реликтовой и эндемичной фауны и флоры,
установленных работами Н.М. Книповича, К.М. Дерюгнна, Е.Ф. Гурьяновой,
ставят под сомнение такие представления. Сведения о реликтовых и
эндемичных организмах, переживших ледниковый период в Белом В Белом море выявлены две основные группы реликтов: представители высокоарктической фауны (моллюски и ракообразные) и бореальные реликты (моллюски, мшанки — всего до 60 видов морской бореальной реликтовой фауны и флоры). Анализируя материалы по реликтовой фауне, Е.Ф. Гурьянова пишет: «Совершенно исключительный интерес представляет присутствие среди теплолюбивых реликтов Белого моря ряда видов, которые устанавливают наличие каких-то древних и пока еще не выясненных связей между Белым морем и дальневосточными морями, с одной стороны и между Белым и Балтийским морями — с другой. Все эти виды бореальной природы обладают разорванным ареалом распределения, и встречаются либо только в Белом море и в Японском и Охотском морях и нигде в промежуточном районе не найдены, либо только в Белом и Балтийском, с прилегающими к нему районами Северного моря, и отсутствуют в переходной части Северной Атлантики и Западного сектора Арктики». Всего в Белом море известно 17 видов реликтовой тихоокеанской фауны и более 20 видов балтийской реликтовой фауны и флоры. Касаясь последних, Е.Ф.Гурьянова пишет, что «все это виды бореальной природы и концентрируются они на мелководьях западной половины Белого моря, придавая ему совершенно своеобразный «балтийский» облик, и, очевидно, должны быть, отнесены к реликтам предшествующей, более тепловодной эпохи». Каким же образом сохранилась реликтовая фауна и флора в Белом море, если оно неоднократно выполнялось материковыми льдами и льды последнего оледенения исчезли только в голоцене. Н.М. Книпович и К.М. Дерюгин, исходя из биогеографических данных, считали, что реликтовая теплолюбивая (бореальная) фауна имеет межледниковый, бореальный возраст, а высокоарктические реликты, возможно, еще более древние. Но «доказанность» последнего оледенения Белого моря, в последующую за межледниковьем эпоху, поставила биологов в тупик. В самом деле, как совместить теорию мощного материкового оледенения беломорской впадины и сохранение древних реликтовых видов морской фауны и флоры? Не случайно крупный исследователь беломорской и баренцевоморской фауны Е.Ф. Гурьянова пришла к малоутешительному заключению, что этот вопрос «очень темен и совершенно запутан, и это одна из самых интересных загадок биогеографии Белого моря" Вопрос вовсе не «тёмен», а как раз ясен. Сохранение в Белом море многочисленной реликтовой фауны и флоры, в том числе тихоокеанских и балтийских видов, свидетельствует о том, что Белое море являлось своеобразным убежищем для плейстоценовой и реликтовой морской фауны и флоры и не заполнялось материковыми льдами. Биогеографические материалы также вполне определенно указывают, что в четвертичное время шельфы арктических морей не покрывались материковыми льдами.
Мамонты и покровный ледник Важным фактором, послужившим выдвижению и обоснованию ледниковой гипотезы, были мамонты, их мерзлые нетленные тела, которые время от времени находили в вечномерзлых грунтах Сибири. Европейские натуралисты, до которых в 18-19 веках доходили такие сведения, терялись в догадках. Но академика Парижской академии наук, зоолога Ж.Кювье осенила идея, что мамонтов погубил внезапно наступивший ледниковый период, он же оледенил трупы и сберег их от разложения. В своем трактате «Рассуждения о переворотах на поверхности Земного шара» (1812) Кювье писал: «Трупы многих четвероногих внезапно окутали льды ледникового периода, и они поэтому сохранились до наших дней вместе с кожей, шерстью и мясом. Если бы они не замерзли моментально, гниение разложило бы их». Образование мерзлоты, по Кювье, тоже происходило моментально и ранее «вечная мерзлота не имела места, где мамонты были захвачены ею, так как они не могли жить при такой температуре... Один и тот же процесс погубил их и оледенил страну, в которой они жили». Так писал Кювье, авторитетный зоолог того времени. Идея была с энтузиазмом воспринята европейскими учеными и вдохновила их на развитие ледникового учения. Но на самом деле природный процесс происходил совсем иначе. К настоящему времени установлено, что вечная мерзлота на севере Сибири существует многие сотни тысяч лет. Во всяком случае — весь четвертичный период. Мамонты и другие животные жили и размножались в суровых условиях вечной мерзлоты, равно как и живут на ней и поныне некоторые сохранившиеся представители мамонтовой фауны — те же северные олени и овцебыки. Какова тогда была растительность — основа кормовой базы мамонтов? На этот вопрос отвечают сами мамонты. В их мерзлых желудках ученые обнаружили достаточно разнообразную растительность — различные травы, в том числе злаковые, остатки веток и коры ольхи, ивовых пород — деревьев и кустарников, а также березы, лиственницы, сосны, ели. В желудке вечномерзлого индигирского мамонта найдены даже остатки молодых еловых шишек. Итак, в весенне-летнее время в рацион мамонтов входили зеленая злаково-травянистая растительность, побеги молодых деревьев и веточный корм лиственных и хвойных пород деревьев и кустарников. Считается, что по аналогии с индийским слоном, взрослому мамонту требовалось в день 400 кг растительной пищи. Но мамонты жили и паслись в суровых условиях лесотундро-степей и, видимо, перекрывали эту пищевую норму, хотя по размеру и весу были примерно равны индийскому слону. B осенне-зимний период мамонт переходил на другое меню: замороженное разнотравье, сухая трава (природное сено), и промороженные веточно-кустарниковые корма древесно-кустарниковых пород. Добыванию мамонтами мороженой и сухой травы — этого жизненно необходимого растительного фуража - способствовало одно важное обстоятельство — а именно малоснежность зим. Мамонты северной мерзлотной зоны, в основном, погибали естественной смертью и в этом случае их останки представлены костями, бивнями, зубами, шерстью. Но некоторых подстерегала другая участь: животные проваливались под лед термокарстовых озер и погребались в анаэробных донных илах, имевших температуры близкие к нулю и находившихся в стадии промерзания. Не меньшую опасность представляли спущенные термокарстовые озера, осушенные днища которых летом покрывались буйным разнотравьем. Увлекшись пастьбой на сочных травах, мамонты могли не заметить коварные ловушки — глубокие топи на месте вытаявших подземных льдов, проваливались в них и погибали. Сохранению тел мамонтов в этих условиях могло способствовать нарастание мерзлоты снизу, что, в общем, происходит и сегодня — на днищах таких спущенных озер образуются бугры пучения — явный признак возрождения мерзлоты. Погибали мамонты и по другим причинам — попадали в речные ледовые заторы во время ледохода, а также под оползни и сели в речных долинах и оврагах. Особо опасными были участки массового таяния жильных и пластовых льдов, образующие непроходимые грязевые топи. Во всех случаях для сохранения тел погибших мамонтов необходимо было достаточно быстрое промерзание отложений, вмещающих тела, быстрый переход тех и других в состояние вечной мерзлоты. Конечно, случаи полного погребения мамонтов и сковывания их мерзлотой были не часты. Имеется немало находок, когда сохранилась только часть туши – та, которая сразу попала в зону вечной мерзлоты. Мамонты, нетленные трупы которых сохранились в этих природных холодильниках, погибали в разные отрезки позднего плейстоцена и голоцена. По данным радиоуглеродных анализов, в Сибири это, в основном, происходило в период 40-10 тыс. лет назад. Непременное условие сохранения трупов в вечной мерзлоте – это чтобы мерзлота в течение десятков тысяч лет не размораживалась – вплоть до нынешнего времени. Такие условия сохранялись и сохраняются поныне на северной окраине Западной Сибири, северной половине Восточной Сибири, включая бассейны рек Яна, Индигирка и Колыма. Стало быть, схема, по которой строилась ледниковая теория: внезапное пришествие ледникового периода, образование мерзлоты, гибель мамонтов и «окутывание их льдом» не имеет ничего общего с реальными событиями. Кроме того, многочисленные датировки абсолютного возраста костей, зубов, бивней, а так же кожи и мяса мамонтов из отложений Северной Азии и Северной Европы (в том числе и Скандинавии) показывают, что мамонты мирно паслись и на территориях, перекрытых (по утвержденным схемам) мощным покровным ледником. Но об этом хоботные даже не подозревали. И, наконец, об утверждении Кювье и других ученых, что «мамонты не могли жить при таких температурах». Да, «температуры» в зимнее время снижались до -50С и это был не предел. Но, то были сухие морозы, ныне характерные для области Сибирского антициклона. В эпоху мамонта антициклон был и над Северной Европой. Изучение биологами шкур мамонтов показало, что животные были прекрасно подготовлены к жутким морозам – они имели густую длинную шерсть и густой, плотный подшерсток, а кожа была толщиной до 3 см (!). Еще под кожей мамонта был толстый слой жира, кроме того, природа наделила мамонта маленькими ушами, в отличие от слона.
Фенноскандия и радиоуглеродные датировки В моих статьях 1970 г., на основе анализа материалов радиоуглеродных датировок, ставился вопрос об отсутствии материкового оледенения Фенноскандии. По прошествии 30 лет, располагая значительно большим числом радиоуглеродных датировок (преимущественно по костям мамонтов), к довольно близким выводам пришли авторитетные исследователи – Ю.К. Васильчук, А.К. Васильчук, О. Лонг, Э. Джалл, Л.Д Сулержицкий (2000). Они доказывают, что мамонты беспрерывно существовали на севере Евразии, по крайней мере, от 40 до 10 тыс. лет назад. И это, по их мнению, свидетельствует о нереальности покровных оледенений на северных равнинных пространствах. Авторы далее пишут: «Особенно интересны в этом плане поздне-плейстоценовые датировки мамонтов в Скандинавии – они указывают на распространение Скандинавской популяции мамонтов 40-10 тыс. лет назад; вероятно в этот период наряду с ледниками, здесь была распространена криолитозона с большими внеледниковыми участками» (Докл. Академии наук – Т.370.-№6.-2000.-С.815-818).
Вывод очень осторожный, но он сам по себе лишает Фенноскандию привычной
роли центра мощнейшего покровного оледенения с толщиной льда до Итак, прежний мощный монолитный ледниковый щит оказался разобщенным на «большие внеледниковые участки», на разрозненные ледяные поля или ледниковые шапки. И эти внеледниковые пространства не могут быть отнесены к вершинам, возвышающимися над «невероятным ледниковым покровом» — на них просто отсутствует растительность – необходимая пища для проживания мамонтов. Стало быть, с палеогеографических позиций нет основания считать Фенноскандию центром Европейского ледникового покрова и поэтому многочисленные ледниковые построения выглядят просто схоластическими.
Можно сказать, что мамонты решили судьбу ледниковой теории не в пользу ее творцов. После знаковой статьи Ю.К. Васильчука с соавторами появились новые сведения об обитании мамонтов в Фенноскандии во время последнего покровного оледенения. В монографии «Эволюция экосистем Европы при переходе от плейстоцена к голоцену (24-8 тыс. л.н.)» (2008) приводится схема местонахождения остатков мамонтов в Швеции и Финляндии, в так называемой центрально-ледниковой зоне, где они обитали в течение всего «оледенения». Ранее были опубликованы знаковые работы А. Гейнтца (Heintz, 1965,1974) по радиоуглеродному датированию бивня и челюстей мамонтов, обнаруженных в центральной части Норвегии в долине р. Логен. Получены следующие результаты: 19 000±120, 20 000±250, 23 370±98 лет назад. Стало быть, животные паслись и размножались в этой живописной долине в самый разгар покровного вюрмского оледенения! Другой норвежский исследователь Лейф Куллман (Kullman, 2008) на основании радиоуглеродного датирования ископаемой березовой древесины и материалов других авторов пришел к выводу, что в северной части Норвегии во время максимума последнего оледенения в период 21-17 тыс. лет назад были свободные ото льда участки, на которых и произрастала древесная растительность. Авторы «Эволюции экосистем Европы…» по данному вопросу так же ограничивались осторожной формулировкой: «Данные по Фенноскандии показывают, что даже в этом регионе существовали обособленные популяции животных, обитавшие на свободных ото льда участках». Как видно, ученые разных научных школ согласны в главном: во время последнего покровного оледенения в центрально-ледниковой зоне имелись участки суши, свободные от ледника. У Ю.К. Васильчука с соавторами это «большие внеледниковые участки», у других ученых – участки неизвестной величины. Более определенно и необычайно смело пишет о внеледниковых территориях А. Гейнтц: долина р. Логен в Гудбрандсдалене была местом обитания норвежских мамонтов во время последнего оледенения. Подобные долины с богатой кормовой базой для мамонтовых сообществ должны быть обнаружены в Швеции и Финляндии. Но ученые ограничиваются неопределенными терминами «свободные ото льда участки». Что это за участки на территории центральной ледниковой зоны? Напомним, что толщина последнего Фенноскандинского ледникового щита в трудах ученых определяется в 3-4 км и по этому показателю он не уступал льдам Гренландии и Антарктиды. Но до сих пор ученые не дают характеристики «свободных ото льда» участков. Рассмотрим два возможных варианта этих «участков». Первый вариант и его обычно выдвигают ученые, это нунатаки – горные вершины, выступающие из-под ледника. Такие нунатаки кое-где есть на окраинах Гренландского ледника, больше их в Антарктиде, где Трансантарктический хребет (высота до 4528 м) и горы Элсуэрт (высота 5140 м) выступают в виде остроконечных скальных вершин над ледниковым покровом. Но эти нунатаки и горные вершины находятся в области вечного мороза и кроме накипных лишайников на солнечной стороне вертикальных скал там ничего произрастать не может (см. эпиграф ботаника И.Ф. Удры (2009) по этому вопросу). В Скандинавии горы значительно ниже – в Норвегии до 2469 м, в Швеции – 2123м. При общепринятой толщине льда 3-4 км эти горы с запасом покрываются льдами. Но, возможно, сторонники оледенений в 2-3 раза уменьшат толщину льдов, чтобы появились требуемые нунатаки. Но кроме накипных лишайников они, опять-таки, ничего не дадут. А взрослому мамонту в день требуется 400-500 кг пищи в виде травянистой и древесно-кустарниковой растительности. Второй вариант – это представить «свободные ото льда участки» в виде впадин или грабенов (graben (нем.) – ров) в теле ледникового щита. Но может ли ледниковый покров, расчлененный на безледные рвы-грабены и отдельные купола льда, посылать остатки своего ледникового щита на юг, на европейские равнины? Материалы по обитанию мамонтов в Швеции и Финляндии, по древесной растительности в Норвегии и Швеции во время последнего оледенения постоянно пополняются. Новые радиоуглеродные датировки костей мамонтов, ископаемой древесины дополнительно подтверждают, что в интервале времени 26-10 тыс. лет назад никакого покровного оледенения в Фенноскандии не было. Вот новые, дополнительные радиоуглеродные датировки по Фенноскандии (в тыс. лет назад): 25,9; 24,7; 24,5; 23,3; 22,4; 19,1; 18.5; 16,9; 15.9; 14,0; 13,3; 13,0; 12,9; 11,7; 11,0; (Ukkonen, at al, 2007; Ukkonen, at al, 1999; Kullman, 2008; Никонов, Флейфель, 2011). Эти даты как раз соответствуют времени широкого и мощного последнего вюрмского оледенения (разумеется, в трудах ученых), его начала, максимума и деградации (рис.40). Получены также новые дополнительные радиоуглеродные датировки по костям мамонтов и по растительным остаткам, приходящимся на «межледниковье» — в тысячах лет назад: 26,2; 28,7; 29,4; 29,5; 31,0; 31,9; 34,5; 37,0; 40,2; 41,0 (Ukkonen, at al, 2007; Никонов, Флейфель, 2011). Хорошо известны так же датировки для голоцена (в основном, по торфу и древесным остаткам). Поэтому не представляется спасительной возможности поменять местами «оледенение» и «межледниковье», как это предполагалось некоторыми учеными. И нельзя «опустить» оледенение в голоцен – везде имеются доказательства произрастания в Фенноскандии древесной растительности или проживания мамонтов, как во время оледенения так и в межледниковье.
И снова о мамонтах в Фенноскандии Уже после написания данной главы поступили новые материалы по обитанию мамонтов в Европе в последние 50 тыс.лет. Они опубликованы в статье А.К. Марковой, А.Ю. Пузаченко, И. ван дер Плихт, Т. ван Кольфсхохтен, Д.В. Пономарева (Докл. РАН, 2010, т. 431, № 4). Основательно базируясь на 5000 (!) радиоуглеродных датировках костей млекопитающих, ученые фактически показывают, что в Европе и в Фенноскандии во время последнего покровного оледенения (валдайского, вюрмского) и даже в его максимальную фазу обитали стада мамонтов (рис. 2б в статье А.К. Марковой с соавторами). Из схем также следует, что мамонты были широко распространены в Фенноскандии и в так называемое межледниковье, их ареал стал сокращаться уже после деградации «оледенения» – в поздне-послеледниковое время. Причиной тому, видимо, было исчезновение пастбищных ландшафтов мамонтов – лесотундро-степей, замена их тайгой и болотистыми тундрами, сменой солнечного, хотя и сурового климата, на пасмурную дождливую погоду. Вместе с тем ученые не считают возможным снять покровное оледенение с Фенноскандии, они утверждают следующее: «Очень показательно отсутствие мамонта на большей части Скандинавского полуострова, что связано с расширением покровного оледенения (рис. 2б)» Не верь глазам своим! Сравнивая рис. 2а (межледниковье) и рис. 2б (максимум покровного оледенения) легко определить (см. рис. 41), что число обнаруженных мест обитания мамонтов в Фенноскандии в целом остается прежним: на период вюрмского оледенения ареал мамонтов сокращается на севере Норвегии и Швеции, но зато сохраняется в центральных и южных частях этих стран. Более того, отчетливо намечается расширение ареала мамонтов в Финляндии. Возможно, стада мамонтов перекочевали из одной «центрально-ледниковой» зоны в другую, ведь они не догадывались, что и Финляндию ученые будут покрывать трехкилометровой толщей льда. Считать перекочевки мамонтов сигналом к оледенению северных частей Фенноскандии, как это делают ученые, не очень рационально: надо ведь двигать покровный ледник на юг, покрывать льдом обширные равнины Европы. А для этого ледниковому покрову требуется пройти сквозь «мамонтовый строй», перекрыть мамонтовые пастбища. Из рис.2б А.К.Марковой и др. следует, что в эпоху максимума последнего оледенения мамонты обитали на о.Вайгач (!), в бассейне Печоры, в долине Сев.Двины. А.А.Никонов («Тиетта» №3, 2011) пишет об обитании мамонтов на берегах Белого моря 18 тыс. лет назад (в разгар оледенения!). Впрочем, жили мамонты и в ледниковой зоне Дании, Германии, Англии (рис.2б). На самом деле, мамонты спокойно кормились в своих лесотундро-степях, ничего не ведая о ледниковом мертвящем саване, уготованном им учеными.
Реликтовая фауна и флора в Скандинавии В центре предполагаемого оледенения — в Фенноскандии, где ледниковая “пята” изображается наиболее продолжительно существовавшей, выявлены многочисленные реликтовые и эндемичные виды растений и животных, переживавших ледниковый период на месте (работы Р. Нордхагена, А. Хансена, Х. Броха, С. Экмана, Б.А. Мишкина, Р.Н. Шлякова, Е.В. Вульфа, В.Н. Васильева, И.Ф. Удры). Дискуссия по вопросу “перезимовки” рядом высших растений и животных ледникового периода в Фенноскандии ведется более полувека. Результаты ее в основном, сводятся к следующему: 1.Факт наличия реликтовых и эндемичных растений и животных в составе флоры и фауны Фенноскандии признается большинством исследователей; 2. Большинство ученых также считает возможным признать теорию “перезимовки” растений и животных в течение последней ледниковой эпохи. Согласно этим представлениям они находились в убежищах — в основном на горных вершинах, возвышающихся над ледниковым покровом. Эту теорию поддерживают и многие крупные геологи и географы (У. Хольтедаль, Л.Р. Серебрянный, Р.К. Баландин). Единственный недостаток этой теории — невозможность произрастания высших растений (а также обитания животных) как на горных вершинах, возвышавшихся над сплошным ледниковым покровом, так и в других убежищах в центре материкового оледенения с толщиной льда до 4 км. Не менее важные данные по реликтовой фауне жуков приводит шведский биолог К.Линдтроп (1970). По его материалам, ряд видов жуков пережил последнюю ледниковую эпоху на месте, в Скандинавии и обитает там поныне. По Линдтропу, жуки в последнюю ледниковую эпоху обитали на участках, свободных от покровного оледенения. Вот вам и центр материкового оледенения! Выше упоминалось, что ледниковый период в Скандинавии пережили многие эндемичные и (обычные) растения, там во время "ледниковой" эпохи паслись мамонты и теперь вот центрально-ледниковая зона и жукам стала нипочем ... Прав был выдающийся и очень смелый ботанико-географ В.Н. Васильев (1963), писавший: “Биогеографические данные обязывают отказаться от ледниковой гипотезы в любом ее варианте”. Гипотезы о причинах ледниковых периодов росли как грибы М. Шварцбах Гипотезы о причинах оледенений варьируют от маловероятных до внутренне противоречивых Дж. Чарлсуэрт
Ледниковые гипотезы и ледниковая стратиграфия К настоящему времени количество «серьезных» гипотез о причинах ледниковых эпох достигает порядка 250 и число их ежегодно увеличивается. При этом каждая новая гипотеза, а то и две – три, опровергает предыдущие серьезные гипотезы. Я уже писал о нескончаемых блестящих ледниковых гипотезах – этих научных гаврилиадах, которые сами по себе развенчивают ледниковое учение (Чувардинский, 2006), поэтому кратко остановлюсь на вопросах ледниковой стратиграфии. Может, здесь дела идут хорошо? Нет, следуя заключению Дж. Чарсуэрта, можно сказать: положение тоже окончательно запуталось. Конец 19-го и начало 20-го века прошли под знаком развития ледниковой теории. Особый вклад в упрочение теории внесли стратиграфические исследования, выполненные немецкими учеными А. Пенком и Э. Брюкнером (Penck, Brückner, 1909). Изучив речные долины северных предгорий Альп, они пришли к выводу, что речные террасы, сложенные галечниковыми толщами, формировались в условиях крайне сурового ледникового климата и они (террасы) являются ключевым фактором в деле ледниковой стратиграфии. Было выделено четыре террасовых уровня и, соответственно, четыре ледниковые эпохи: гюнц, миндель, рисс, вюрм (по названиям рек, правых притоков р. Дунай). Эта стратиграфическая шкала сразу была широко востребована в ледниковой геологии. И не зря. Она избавляла ученых от необходимости вникать в чрезвычайно большое количество местных наименований тех или иных ледниковых эпох, избавляла от постоянной путаницы. Как писали Дж. Имбри и К. Имбри (1988): «Этим терминам — гюнц, миндель, рисс, вюрм, вычеканенным Пенком и Брюкнером, было суждено долго звучать в аудиториях университетов и глубоко запасть в память поколений студентов-геологов». Добавлю, эти эпохи глубоко запали в головы многих поколений геологов-четвертичников и геологов общего профиля. Особой популярностью схема Пенка-Брюкнера пользовалась у наших стратиграфов, которые даже гордились тем, что альпийская шкала была внедрена в четвертичную систему всей страны — от Балтики до Берингова пролива. Однако, с течением времени выяснилось, что альпийская шкала базируется на совершенно ошибочных предпосылках. Детальные исследования другого немецкого геолога И. Шефера (Shaefer, 1953) галечниковых террас тех же альпийских рек позволили обнаружить в разрезах «ледниковых галечников» скопления раковин теплолюбивых пресноводных моллюсков. Палеонтологические материалы ясно указывали, что климат времени формирования террас был близок к современному, а вовсе не к ледниковому. Оледенение горной системы Альпы было того же типа, что и ныне — горно-долинным, а не сплошным горно - покровным, как принято до сих пор считать. Талантливый исследователь И. Шефер поставил перед научным сообществом вопрос: «Каким образом и почему, речные галечники, содержащие ископаемые раковины тепловодных моллюсков, считаются ледниковыми?». Этот законный вопрос грозил подорвать основу ледниковой стратиграфии, а может и всю ледниковую систему. Но как сообщают Дж. Имбри и К. Имбри, «европейские геологи в своем большинстве попросту проигнорировали проблему, отмахнувшись от шеферовских моллюсков, как от мелкого исключения из общего правила». Затем в 1967г. чехословацким геологом Дж. Куклой в галечниках террасы альпийской реки Ульм (Пенк и Брюкнер относили эту терассу к вюрмскому оледенению) были обнаружены остатки стволов деревьев, что еще больше подорвало схему Пенка-Брюкнера. Но было уже поздно. Альпийская ледниково-климатическая шкала вошла во все учебники по геологии, геологические словари и руководства, она победно шествовала по континентам и считалась эталонной. Ни моллюски Шефера, ни ископаемая древесина Куклы уже ничего не могли изменить, схема стала незыблемой. Мы и теперь можем прочесть в «Гляциологическом словаре» (1984) следующие строки: «С начала 20-го века эталоном ледниковой стратиграфии служит схема, составленная А. Пенком и Э. Брюкнером для Альп». В настоящее время снова расцвело неимоверное количество всевозможных наименований одних и тех же ледниковых эпох. Целые институты бьются над сопоставлением (по научному — корреляцией) разных местных схем и разных местечковых названий оледенений. Может всю эту пестроту снова заменить «чеканными терминами» — гюнц, миндель, рисс, вюрм? В конце концов, нынешние названия оледенений и межледниковий тоже основаны на ошибочных предпосылках, как и альпийская шкала, но зато ученые будут избавлены от схоластических корреляций, да и неимоверное количество «оледенений» будет как-то упорядочено. «В каменноугольном периоде образовалось 27% мировых запасов каменных углей» («Историческая геология…»,1985)
«Климат пермского периода был вообще самым теплым из ранее господствовавших в палеозое» (Геологический словарь,1973)
О пермско-каменноугольном оледенении Главным доказательством этого оледенения является мощные толщи тиллитов, штриховка и полировка кристаллических пород, рельеф бараньих лбов, серповидные выемки и другие критерии, используемые и для доказательства четвертичных ледниковых покровов. Широкое привлечение этих признаков для доказательства пермско-карбонового оледенения позволило сделать вывод о необычайной грандиозности ледниковых событий. Принято считать, что ледяной панцирь толщиной до 5-6 км покрывал Южную и Центральную Африку, Индостан, Мадагаскар, Австралию, Антарктиду, Южную Америку, часть Аравийского полуострова и даже берега Красного моря Эфиопии. Тиллиты каменноугольно-пермского оледенения обнаружены в Европе – в Великобритании, в угольных слоях Франции и Германии (в Тюрингии, Вестфалии). В Северной Америке к тиллитам этого времени относят мощные конгломераты Новой Шотландии, о. Принца Эдуарда, штата Оклахома на северо-востоке США. Тиллиты пермо-карбона развиты в Канаде, на Аляске, на северо-востоке Азии. Итак, «надежные признаки» покровных оледенений – тиллиты широко развиты как в Южном так и в Северном полушарии планеты и даже захватывают тропические и экваториальные зоны того времени. Палеогеографы торжествовали: мощнейшее оледенение охватывало большую часть земной суши! Вот оно доказательство правильности ледникового учения! Иногда были слышны голоса палеонтологов, ботаников и зоологов, пытавшихся указать, что при оледенениях таких масштабов возникнут проблемы с сохранностью органической жизни на континентах и вообще на Земле. Но им указывали на тиллиты, штрихи и борозды, на утюгообразные валуны и ученые смирялись. Однако со временем энтузиазм уменьшился, начали появляться явные противоречия и неувязки в великой ледниковой теории. Е.С. Короткевич (1972) — один из первых исследователей ,кто поднял эти вопросы. В книге «Полярные пустыни» он пишет: ”Позднекарбоновое оледенение охватило настолько огромную площадь, что даже при любом ”укладывании” материков (имеется в виду теория тектоники плит) на поверхности земного шара, оно распространяется от южного полюса до 30-40° широты. то есть если учесть соответствующее распространение его в северном полушарии, оледенение охватывает почти весь земной шар”. Согласно Е.С. Короткевичу и теория перемещения полюсов ”не объясняет одновременного распространения верхнекарбонового оледенения, оно должно было охватить практически весь земной шар… По-видимому его нужно объяснять сильнейшим охлаждением всего земного шара, сплошным оледенением Земли”. Естественно, был уничтожен растительный и животный мир планеты. С.А. Ушаков и Н.А. Ясаманов в книге ”Дрейф континентов и климаты Земли”(1984) также пишут о почти сплошном оледенении Земли в пермско-карбоновый ледниковый период. Они указывают, что «высокая степень альбедо привела к сильному выхолаживанию территории. В свою очередь огромные пространства, занятые льдами, существенно увеличили среднее альбедо Земли. В результате этого Земля лишилась значительного количества тепловой энергии, что, в свою очередь привело к сильному снижению средних температур в низких широтах», в тропиках. Конечно, рассуждения Е.С. Короткевича, С.А.Ушакова и Н.А. Ясаманова логически справедливы. Если было великое оледенение, то и похолодание климата планеты должно быть глобальным. Но вот фактические данные. Для периода грандиозного, «охватившего практически весь земной шар» и погубившего все живое, пермско-карбонового оледенения имеется богатый палеонтологический материал, позволяющий реконструировать фактические ландшафты и климаты этой эпохи. Вот так описывает природную обстановку того времени В.П. Гаврилов (1986): «В каменноугольном периоде создались чрезвычайно благоприятные условия для развития наземной растительности. Теплый, влажный климат господствовал на значительных пространствах земного шара. Душная, тяжелая атмосфера царила в каменноугольных лесах. Формировались залежи каменных и бурых углей». Но может быть максимальные фазы пермско-карбонового оледенения приходятся на пермский период? Однако, все, что известно о климатах перми явно не подтверждает теорию «великого оледенения». В Геологическом словаре (1973) констатируется: «Климат пермского периода был вообще самым теплым из ранее господствующих в палеозое». В условиях жаркого и сухого климата. в одних районах Земли в высыхающих морях и обширных лагунах отлагались толщи эвапоритов, гипсов, ангидритов, солей, а в других - царил жаркий и влажный климат и шло накопление залежей каменных углей. Итак, «душная, тяжелая влажная атмосфера» в каменноугольном периоде и «жаркие обширные пустыни» в пермском периоде. В одном периоде – парная баня, в другом – сухая сауна. Как это совмещается с утвержденной и возвеличенной теорией громаднейшего оледенения, охватившего чуть ли не весь земной шар. Надо сказать, что палеонтологических данных, явно опровергающих ледниковые построения, собрано исключительно много. Вот характеристики климата и растительности, приводимые в книге «Историческая геология» (авторы Г.И.Немкова, М.В.Муратов, И.А.Гречишникова, 1974г): Наиболее примечательной чертой каменноугольного периода, в том числе позднего карбона «является пышное развитие древесной растительности, покрывавшей все континенты». Каменноугольный период являлся также временем расцвета органической формы жизни и на море – временем расцвета одиночных и колониальных четырехлучевых кораллов, головоногих моллюсков, фузулинид, а также иглокожих, особенно морских лилий и морских ежей. Морская фауна изобиловала рыбами, а на суше процветали земноводные и, появившиеся в среднем карбоне, пресмыкающиеся. Надо заметить, что жизнедеятельность современных кораллов возможна при температурах морской воды не ниже +20С. Получается, что верхнепалеозойским кораллам нипочем и Северный Ледовитый океан! Согласно «Исторической геологии», органический мир в начале пермского периода был во многом схож с органическим миром позднего карбона. В морях существовали те же группы беспозвоночных, а на суше продолжала произрастать пышная растительность. Во второй половине перми произошло сокращение морских бассейнов и началась аридизация климата и развитие жарких пустынных ландшафтов. Подобные характеристики растительного и животного мира на суше и на море и, соответственно, климатических обстановок пермско-карбоновой «ледниковой» эпохи, приведены в книге «Палеонтология» В.В.Друшица и О.П.Обручевой (1971), в десятках других изданий. Итак, изображается мощное покровное оледенение, охватившее почти всю сушу южного полушария и перешагнувшее через экватор и оледенившее северное полушарие Земли. И одновременно с этим – массовое накопление каменных углей в карбоновый период (27 % от мировых запасов) и почти такое же массовое углеобразование в пермский период (около 20% от мировых запасов). С одной стороны, сильное снижение температур и даже оледенение тропических и экваториальных областей и дополнительное сильное охлаждение планеты от недоброго эффекта альбедо, а с другой – в это время пышное развитие растительности, процветание морских теплолюбивых организмов, массовое строительство коралловых рифов в морях и расцвет земноводных и пресмыкающихся на суше. Этих невероятных противоречий могло не быть, если бы приматом в палеогеографии и климатологии были не гипотетические предположения об обширных оледенениях, а огромный фактический материал, накопленный палеоботаниками, палеонтологами, палеозоологами, геологами-угольщиками. Но почему эти специалисты, владеющие богатейшим материалом, не выступают против теории пермско-карбонового оледенения? Видимо, ледниковое учение настолько прочно вошло в науки о Земле, что стало незыблемым. Кто же будет замахиваться на незыблемое? Возникает и другая проблема. Констатируя, что площадь покровного оледенения «была чрезвычайно велика», ученые пишут, что это породило сомнение в возможности существования таких грандиозных ледниковых щитов, а некоторые даже считают, что на Земле не хватило бы воды для формирования столь огромных ледяных масс. Но дело не только в опасениях относительно достаточности водных ресурсов Земли. В перми, когда эти глобальные ледяные массы, не выдержав «жаркого и засушливого климата», растаяли, следовало ожидать длительного и мощного плювиала и повышения уровня океана на сотни метров. Однако, вопреки гляциоэвстатической теории, произошло осушение морей, а вместо плювиала возникли обширнейшие пустыни. Для объяснения причины возникновения огромных ледниковых покровов, распространявшихся даже в тропические и экваториальные зоны того времени, высказано немало гипотез. Наибольшая значимость придается орографической гипотезе академика Н.М.Страхова (1960), согласно которой оледенения развивались в горных условиях. «Когда стало ясно, — пишет Н.М.Страхов, что ледники Индостана и Австралии принадлежат тропической зоне верхнего карбона и нижней перми, толкование их в качестве равнинного материкового оледенения стало невозможным. Единственно возможной оказывается трактовка индостанско-австралийских ледников в качестве оледенений горного типа, возникших в результате образования весьма высоких поднятий в вернекарбоновой экваториальной зоне». Академик прав в том, что покровные ледники оказались лежащими в тропической и экваториальной зонах того времени. Второе его утверждение вызывает вопросы: 1. Какую высоту и площадь имели горные системы, внезапно возникшие на платформах? Посмотрим на современную крупнейшую горную систему Гималаи-Тибет. В этой системе развито только горно-долинное оледенение, кстати, очень слабое на Тибете — высочайшем плато на Земле. И это при том, что данные горные системы лежат не в тропической и экваториальной зоне, а в средних широтах. Значит. нужны более высокие горные системы, чем Гималаи -Тибет, да и площадь их должна быть много больше. Конечно, ради торжества ледникового учения можно пойти и на такие допущения, но надо считаться и с данными геотектоники, которые ясно указывают, что в полеозое (в том числе и пермско-карбоновое время) Индостан и Австралия развивались в платформенном режиме, что делает вопрос о возникновении высоких горных сооружений нереальным. 2. Имеются ли остатки горных сооружений на указанных платформах или свидетельства их сноса в виде мощных скоплений терригенного материала? Таковых не обнаружено. В любом случае гипотетические высокогорные сооружения считаются снесенными денудацией в последующие периоды. Но такая трактовка не объясняет, каким образом, на месте снесенных горных сооружений, на обнаженном докембрийском основании появились следы экзарационной деятельности ледника – штриховка и полировка скальных пород, а также тиллиты, ведь при разрушении и сносе гор в первую очередь должны быть уничтожены геоморфологические и геологические поверхностные следы оледенений. Это самое загадочное место в концепции Н.М.Страхова. Неужто ледниковая синергетика запрограммирована таким образом, что способна оставить следы своей экзарационной деятельности и под основанием горных систем – на поверхности гранитов и гнейсов, слагающих архей-протерозойский фундамент? Может пора вводить подземно-шахтное ледниковое выпахивание, по аналогии с бульдозерно-ледниковым эффектом? Имеются и другие факты, способные вызвать весьма скептическое отношение к великому оледенению. В первую очередь, это девонская кистеперая рыба целакант (латимерия), обитающая и поныне на шельфе у юго-восточных берегов Африки (впервые поймана у Ист-Лондона, затем у Коморских островов). Район обитания кистеперой рыбы находится как раз в области Натальского ледникового центра. Известны также три вида двоякодышащих рыб, сохранившихся с девона и ныне обитающих в пресных водах Африки, Австралии, Южной Америки (Друщиц, Обручева, 1971). Словно в насмешку над ледниковой теорией, девонские кистеперые и двоякодышащие рыбы сохранились только в ледниковых областях и нигде больше. А это значит, что среда обитания в этих районах не претерпела резких изменений с девона до наших дней, и ”живые ископаемые” благополучно пережили ледниковый период на месте, в условиях тропиков. А как обстоят дела с позднепалеозойским оледенением в Антарктиде? Считается, что несомненные следы покровного пермско-карбонового оледенения (380-240 млн. лет назад) – в виде мощных толщ тиллитов, штрихованных бараньих лбов и штрихованных валунов на этом материке имеются и оледенение неоспоримо (Фурмарье, 1971; Чумаков, 1978; Лосев, 1982; Котляков, 1986) Но в то же самое позднепалеозойское время, не взирая на перекрытие Антарктиды мощными покровными льдами, на ее территории шло широкое углеобразование. Еще в антарктических экспедициях Р. Скотта, Э. Шеклтона, Р. Бэрда были открыты залежи каменного угля на Земле Виктория, в Трансантарктических горах, на Земле Королева Мод. В последующие годы количество каменноугольных месторождений увеличилось и Антарктида неожиданно вышла на ведущее место по ресурсам каменного угля. По оценке американских геологов в недрах Антарктиды количество каменного угля, накопившегося в пермско-карбоновый период, больше, чем на остальных материках (Дубровин , 1976). Вот вам и поздне-карбоновое оледенение! Несмотря на все трудности поисков выходов коренных пород, в Антарктиде найдены ископаемые остатки гондванской растительности, в том числе окаменевшие стволы древовидных папоротников из рода глоссортерис, руководящих для пермско-карбонового времени. Найдены также остатки скелетов древнего ящера – листозавра, обитавшего в позднем палеозое и на других континентах (Дубровин ,1976). Итак, снова несовместимые противоречия: необычайно мощные покровные ледники (тиллиты, штрихованные валуны!) и богатый растительный мир (массовое накопление каменных углей). И все это происходит в одно геологическое время! А в сущности никакого противоречия нет. Тиллиты, скалы со штриховкой, утюгообразные валуны – это просто следы, следствия тектонической перестройки материка. Это свидетельства эпохи континентального разломообразования, массового формирования толщ тиллитов, являющихся тектоническим меланжем, мощными тектоническими брекчиями, а также толщами тектоно-оползневого происхождения. Могли ли влиять на изменения климата эти крупные тектонические события? В определенной мере влияли, но локально, в пределах линейных зон повышенной сейсмичности и грабенообразования. Растительный и животный мир в этот период продолжал эволюционно развиваться. Антарктида в среднем и позднем палеозое, видимо, находилась в средних широтах, и частью в тропическом поясе и переместилась к Южному полюсу уже в кайнозое, когда и началось ее покровное оледенение, существующее и поныне. Остается не совсем ясной позиция автора книги ”Антарктический ледниковый покров” (1982) К.С. Лосева относительно тиллитов, которые он считает, несомненно, ледниковыми валунно-глыбовыми отложениями позднего палеозоя. Но он сам разрушает эту иллюзию. В своей книге (с.91) он пишет о ничтожном количестве минеральных включений (”илов”) в Антарктическом ледниковом покрове и подчеркивает, что при таком мизерном содержании этого иловатого вещества даже мелкие подледные озера не могут быть заполнены наносами за миллионы лет. Какие уж тут тиллиты! Материковый лед — неизбежный консервант подстилающей доледниковой поверхности . Не много ли противоречий и явных неувязок для общепризнанной теории великого оледенения? Несомненно, что палеонтологические, биогеографические данные резко восстают против этой теории, но главенствующими, направляющими и руководящими факторами оледенения оказались не они, а геолого-геоморфологические данные. Все дело в генезисе тиллитов, происхождении рельефа бараньих лбов, курчавых скал, штриховки и полировки кристаллических пород – признаков, используемых для доказательства огромного пермско-карбонового оледенения. Признаки те же, что и для четвертичного оледенения. Поэтому можно отослать читателя к разделу где, на примере Балтийского щита, приведены доказательства разломно-тектонического происхождения всех этих ”экзарационных” типов рельефа. Это снимает вопрос о ”следах экзарационной деятельности ледника” в пермско-карбоновое время. За последние годы многими исследователями получены основательные данные, показывающие, что тиллиты имеют тектоническое происхождение. Одна группа этих образований относится к олистостромовой формации, другая – к тектоническому меланжу (тектоническому массиву, тектоническим брекчиям). Ниже приводится характеристика этих отложений и механизм их формирования (в основном, по работе А.В.Лукьянова, М.Г.Леонова, И.Г.Щербы ”Олистостромовая формация и вопрос о псевдотиллитах” (1975). Олистострома представлена несортированными отложениями, состоящими из мелкоземистой массы, в которую включены окатанные, полуокатанные и угловатые обломки различных по составу и размеру пород. Края глыб, валунов, других обломков нередко сглажены, пришлифованы, на их поверхности можно наблюдать штрихи, борозды и зеркала скольжения. Мощность олистостромовых толщ иногда достигает сотен метров. Наряду с олистостромами, сформировавшимися за счет тектонического и оползневого разрушения осадочных парод, большое место занимают тиллитообразные толщи, формировавшиеся посредством разломно- тектонических процессов. В разных регионах Земли установлена прямая связь – путем прослеживания по простиранию и разрезу тиллоидов с тектоническими пластинами. Процессы тектонического дробления, выдавливания брекчий по разломам, тектоно-механическое перемешивание продуктов разрушения осадочных и кристаллических пород привели к формированию «тектонического месива», к формированию меланжа. Последний в крупных разломных зонах достигает многих десятков и даже сотен метров мощности и представляет собой несортированную хаотичную смесь глыб, валунов, других обломков с мелкоземистым материалом. Важно отметить, что для крупнообломочного материала характерна его тектоно-динамическая обработка: глыбы, валуны, гальки, нередко сглажены, пришлифованы, имеют уплощенную утюгообразную форму, покрыты штрихами и бороздами (в том числе разноориентированными). На плоскостях глыб наблюдаются зеркала скольжения. Нетрудно заметить, что рассматриваемые толщи меланжа, «тектонического месива» являются литологическими аналогами тиллитов. Находит объяснение и такой аргумент сторонников ледникового генезиса тиллитов, как присутствие в них чуждых, эрратических глыб и валунов. Работами указанных и ряда других исследователей установлено, что тектонический транспорт крупнообломочного материала в меланжах и тектоническом месиве достигает десятков, а иногда и сотен километров. Не случайно поэтому, что, как это ныне установлено, классические пермско-карбоновые тиллиты серии Двайка, формировались в обособленных тектонических депрессиях и грабенообразных прогибах, где их мощность достигает 300 и даже 500 метров. При этом изборожденные, исштрихованные подстилающие породы являются тектоническими зеркалами скольжения. Приуроченность толщ пермско-карбоновых тиллитов к крупнейшим разломно-тектоническим зонам, активным в указанный период, неоднократно подчеркивается в книге «Зимы нашей планеты» (1982). Часть олистостромовых толщ формировалась в море. Установление тектонического генезиса прежних толщ тиллитов палеозоя и более молодых тиллоидов (меланжа, тектонического месива, микститов) имеет важное палеогеографическое значение. Но на пересмотр генезиса пермско-каменноугольных тиллитов наложено табу (иначе рухнет вся система доказательств гигантского оледенения). Имеются весьма веские основания к пересмотру генезиса и более древних тиллитов, переводу их в разряд тектоно-механических образований (меланжей, олистостром, тектонического месива). Подмеченное многими учеными совпадение эпох «великих оледенений» с перестройкой тектонического плана Земли, с эпохами орогении и рифтогенеза, находит свое естественное объяснение, если учесть, что толщи тиллитов являются индикаторами глобальных тектонических процессов. Что касается позднепалеозойского ледникового периода, то признание тектонического генезиса тиллитов и разломно-тектонического происхождения экзарационного рельефа позволит освободиться от явных неувязок и противоречий, вызываемых необходимостью совмещать теорию суперпокровных оледенений с теплым и влажным климатом карбона и аридно-пустынным жарким климатом перми — природной обстановкой действительно, существовавшей на огромных пространствах суши. Как сказано в эпиграфе к разделу, массовое накопление каменных углей происходило именно в каменноугольный и пермский периоды – во время страшнейшего оледенения планеты. Еще пару таких оледенений и человечество было бы основательно и надолго обеспечено первоклассным каменным углем. Что касается ледниковых периодов, выделяемых в рифее и протерозое, то получены данные, ставящие под сомнение такие построения. Наиболее убедительные свидетельства против этих оледенений приводятся в работах К.Э.Якобсон (1987) и Н.Н.Копыловой (2007).
|
|
Ссылка на книгу: Чувардинский В.Г. Четвертичный период. Новая геологическая концепция. – Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. 2012. – 179 с.
|
![]()