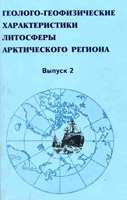| ||
|
ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербург, Россия | ||
|
|
|
Для
количественной оценки режимов тектонических движений в мезозое и
кайнозое создана статистическая модель глубин залегания опорных
отражающих горизонтов осадочного чехла. Выполнены корреляционный,
факторный и кластерный анализы: первый фактор отождествлен с
интенсивностью погружений континентальной окраины, второй - с
унаследованносгью тектонического режима, третий - с недокомпенсацией
опусканий седиментацией. Максимальные унаследованные погружения
характеризуют осевые зоны Баренцево-Северокарского мегапрогиба, краевые
грабен-рифты являются новообразованными структурами. Стабильный режим
умеренных колебательных движений Печорской и Западно-Сибирской плит
резко отличается от дифференцированных, преимущественно нисходящих
движений земной коры Баренцево-Карской окраинно-материковой плиты.
Недокомпенсация погружений земной коры является характернейшей чертой
тектонического режима пассивных зон перехода на юной стадии их развития.
Кайнозойский чехол Баренцево-Карского шельфа изучен сотнями тысяч пог. км одноканального сейсмического профилирования MOB ЦЛ [Дибнер, 1978; Мусатов, 1989; 1996; Мусатов и Мусатов, 1992; Antonsen et al., 1991; Elverhoi et al., 1988; Knutsen et al., 1993; The geology…, 1998] и непрерывного сейсмоакустического профилирования [Гриценко и Крапивнер, 1989; Лопатин и Мусатов, 1992; Мусатов, 1997а; Elverhoi & Solheim, 1983; Solheim & Kristoffersen, 1984; Zarchidze et al., 1991]. По результатам сейсмических работ MOB ОГТ [Баренцевская шельфовая…, 1988; Батурин, 1988; Гуревич и Мусатов, 1992; Осадочный чехол…, 1993; Погребицкий, 1997; Сенин и Шипилов, 1992; Тектоническая карта…, 1996; Eldholm et al., 1987; Faleide et al., 1984; Kristoffersen et al., 1984; Skagen, 1993] составлен ряд структурных карт по опорным отражающим горизонтам осадочного чехла и кровли складчатого фундамента [Верба и др., 1990; Волк и др., 1973; Карта рельефа…, 1986; Сенин и др., 1989; Atlas…, 1994] и изучены основные характеристики неотектонического режима [Аветисов, 1996; Ассиновская, 1994; Грачев, 1996; Зархидзе, 1985; Карта новейшей…, 1998; Крапивнер, 1986; Мусатов, 1990; 1997; Рыжов, 1988]. Исследование последнего чрезвычайно важно при нефтегазопоисковых работах, так как кайнозойский этап развития региона хотя и не привел к формированию новых месторождений (за исключением вероятных скоплений углеводородов в проградационных клиньях материковых склонов и в периокеанических прогибах), но оказал решающее влияние на сохранение и переформирование залежей нефти и газа и прирост амплитуд перспективных структур [Мусатов, 1997; Knutsen et al., 1993; Skagen, 1993]. В то же время остаются неизученными количественные характеристики неотектонического режима региона, которые должны быть рассчитаны с применением стандартных математических процедур. Очевидно, что для этого необходимо выяснение соотношений карт кровли и подошвы верхнекайнозойского чехла, коррелятного новейшему этапу, со структурными картами по более глубоким опорным отражающим горизонтам осадочного чехла, а также проведение сравнительного анализа мощностей как кайнозойских, так и подстилающих верхнепалеозойских - мезозойских отложений.
Фактический материал В основу работы положены структурные карты по сейсмическим горизонтам III-IV (кровля разновозрастного складчатого фундамента), А (подошва триасовых пород), В (кровля средне-верхнеюрских отложений в Баренцевом море) и Б (кровля юрских пород в Карском море), составленные по результатам сейсмических работ MOB ОГТ в м-бе 1:2 500 000 для всего Баренцево-Карского шельфа, архипелагов и прилегающей суши в России (ВНИИОкеангеология, НИИМоргеофизики, Мурманская Морская Геологоразведочная Экспедиция, Институт Литосферы РАН) и в Норвегии (Норвежский Полярный институт, Норвежский Нефтяной Директорат, институт Континентального Шельфа). Уменьшенные версии этих карт опубликованы в [Баренцевская шельфовая…, 1988; Батурин, 1988; Верба и др., 1990; Волк и др., 1973; Карта рельефа…, 1986; Осадочный чехол…, 1993; Сенин и Шипилов, 1992; Сенин и др., 1989; Тектоническая карта…, 1996; Antonsen et al., 1991; Atlas…, 1994; Elverhoi et al., 1988; Faleide et al., 1984; Kristoffersen et al., 1984]. Разумеется, что в масштабах всей Западно-Арктической континентальной окраины эти горизонты являются «плавающими», охватывая иногда стратиграфический диапазон вплоть до нескольких ярусов либо надъярусов. Но для создания трехмерной статистической модели осадочного чехла в первом приближении принималась изохронность сейсмических границ. Структурные карты по опорным отражающим горизонтам Г (подошва меловых пород в Баренцевом море), Г и М (кровля сеномана - подошва турона и верхи апта в Карском море) и серии горизонтов I-II-Ia, установленных в толще каменноугольных-нижнепермских пород, использовались лишь на качественном уровне, так как для всей материковой окраины они еще не прослежены. Для кайнозойского чехла использовались структурные карты по отражающему горизонту Д1 (подошва неоген-четвертичного чехла) и Е1 (подошва верхнеплейстоцен-голоценовых отложений) того же масштаба [Гуревич и Мусатов, 1992; Лопатин и Мусатов, 1992; Мусатов, 1989; Solheim & Kristoffersen, 1984], построенные поданным непрерывного сейсмоакустического и одноканального сейсмического профилирования MOB ЦЛ. Для корреляции современного и погребенного рельефа учитывались батиметрические карты [Мусатов, 1997а; Bathymetry…, 1991; Elverhoi & Solheim, 1983; Matishov et al., 1995], совпадающие с сейсмическим горизонтом Е2.
Методика На каждой из вышеперечисленных карт в м-бе 1:2 500 000 по регулярной сети квадратов в условной прямоугольной системе координат (оси абсцисс соответствовали долготы, а оси ординат - широты), рассчитывались средние значения изогипс и изопахит, условно относимые к центру квадрата со стороной 2 см в м-бе карты. Общее число квадратов составило 1232 для всей материковой окраины. В исходный файл закладывались 9 признаков: H1 - мощность верхнеплейстоцен-голоценовых осадков (Е2-Е1); Н2 - мощность неоген-четвертичных отложений (Д1-Е2); Н3 - глубина моря (Е2); Н4 - глубина залегания горизонта Е1; Н5 - глубина залегания горизонта Д1; Н6 - глубина залегания горизонта Б-В; Н7 - глубина залегания горизонта А; Н8 - глубина залегания горизонта III-IV; Н9 - расчлененность донеогенового рельефа (Д1), как важный показатель неотектонической активности. Он рассчитывался для каждого квадрата по формуле Н9 = (Hmax + Hmin): 2, где Hmax и Hmin - максимальные и минимальные отметки кровли донеогеновых (коренных) пород (горизонт Д1). Все признаки рассчитывались в метрах. Естественно, что в случае выхода кристаллического либо складчатого фундамента на дневную поверхность, все расстояния между изогипсами «схлопывались», и их значения сводились к нулю (так, например, у уреза воды Мурманского побережья Кольского п-ова, где обнажен карельский фундамент, все признаки равны нулю). Основные статистики перечисленных признаков приведены в табл. 1. Средние арифметические значения мощностей верхнекайнозойских отложений характеризуют интенсивность молодой седиментации на шельфе. Стандартные отклонения глубин залегания отражающих горизонтов последовательно возрастают вниз по разрезу, коэффициенты вариации остаются примерно на одном уровне, достигая максимума для рефлекторов в мезозойско-кайнозойском чехле. Минимальные значения коэффициента асимметрии характерны для поверхности складчатого фундамента, и ей же свойственны отрицательные значения эксцесса. Поверхности кровли и подошвы верхнекайнозойских отложений описываются максимальными положительными значениями эксцесса. Далее проводились корреляционный (табл. 2), факторный и кластерный анализы. Для каждого из 1232 квадратов матрицы рассчитывались средние значения факторных нагрузок; графопостроение проводилось в условных единицах от 1 до 25. Корреляции кровли и подошвы новейших отложений и рефлекторов в нижележащей части осадочного чехла положительны и закономерно убывают вниз по разрезу, свидетельствуя об унаследованности структурного плана. Очень высокие коэффициенты корреляции существуют между отражающими горизонтами в мезозойских породах (0,77) и между кровлей фундамента и подошвой триаса (0,75). Высокие корреляции современных глубин (0,96) и низкие корреляции мощностей новейших осадков (0,34 и 0,32) с кровлей коренных пород указывают на преобладание некомпенсированных погружений. Отсутствие корреляций мощностей верхнекайнозойского чехла и современного рельефа является показателем структурных и/или седиментационных перестроек. Для расчлененности донеогенового рельефа характерны высокие корреляции с глубинами его залегания (0,50) и с современными отметками дна (0,48), что свидетельствует о широком проявлении эрозионных процессов.
Обсуждение результатов Значение парной корреляции мощности неоген-четвертичного плаща и глубин отражающих горизонтов в осадочном чехле, рассчитанные по регулярной сети с шагом 50 км, приведены на рис. 1. В Баренцевом море наиболее высокие корреляции наблюдаются между мощностями новейших отложений, их подошвой и кровлей юры. На Приновоземельском шельфе практически все корреляции становятся незначимыми. Их отрицательные значения для мощностей верхнекайнозойского чехла и современных глубин свидетельствуют об инверсиях рельефа в Карском море. Там мощности неоген-четвертичных отложений тесно коррелируют с кровлей юры и подошвой триаса, но гораздо хуже - с донеогеновым рельефом. В результате Q-факторного анализа первого файла выделено 5 основных факторов с суммарной дисперсией 95%. Их нагрузки приведены в табл. 3; идентификация проводилась методом главных компонент. Из табл. 3 следует геологический смысл основных факторов статистической модели. Высокие корреляции (0,5) с подошвой и кровлей новейшего чехла (Н3-5) первого фактора позволяют отождествить его с интенсивностью новейших погружений шельфа. Второй фактор, ввиду его максимальных корреляций (0,45-0,52) с глубинами опорных отражающих горизонтов в верхнепалеозойском - мезозойском плитном чехле (Н6-8), соответствует унаследованности неотектонического режима от древних структурно-тектонических этапов. Близкие к единице (-0,84) отрицательные корреляции третьего фактора с мощностями неоген-четвертичного чехла (Н2) отражают некомпенсированность новейших погружений и/или влияние процессов денудации в позднем кайнозое. Четвертый фактор отождествляется с влиянием современных процессов эрозии и донного размыва из-за подавляющих отрицательных соотношений (-0,93) с современным осадконакоплением (H1). Пятый фактор не поддается однозначной интерпретации. Наибольшие значения первого фактора (рис. 2) приурочены к материковому склону, а на шельфе - к осевым зонам Баренцево-Северокарского мегапрогиба (Южно- и Северо-Баренцевская впадины, желоба Медвежинский, Нордкапский и Святой Анны), где амплитуды неотектонических погружений максимальны. На Западно-Сибирской плите наибольшие позднекайнозойские прогибания характеризуют южную часть Восточно-Новоземельского желоба. По минимальным значениям интенсивности новейших опусканий (рис. 2) выделяются участки шельфа, обрамляющие интенсивно поднятые Балтийский щит, Тимано-Канинский выступ и орогены Пай-Хоя, Новой Земли и Таймыра, а также активизированное краевое шельфовое поднятие в полосе Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - о. Ушакова - Северная Земля, разбитое грабенами желобов Франц-Виктория, Британского Канала, Святой Анны и Воронина на отдельные острова и архипелаги. Как зоны слабых поднятий либо знакопеременных движений оконтуриваются Центрально-Баренцевское плато, Медвежинско-Надеждинская ступень, своды Персея, Федынского и другие морфоструктуры. По распределению нагрузок второго фактора (рис. 3) как область унаследованной эволюции в кайнозое выделяется шельфовая часть Западно-Сибирской плиты, но Восточно-Новоземельский желоб является новообразованной морфоструктурой. Унаследованно развивается и Баренцево-Северокарский прогиб (в первую очередь Южно-Баренцевская впадина), испытывавший устойчивое погружение [Баренцевская шельфовая…, 1988; Мусатов, 1997; Сенин и др., 1989] в мезозое-кайнозое. Минимальные значения второго фактора близ Балтийского щита, Новой Земли, Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа объясняются, видимо, как интенсивными поднятиями на новейшем этапе, так и молодыми гляцио-изостатическими движениями. Зона краевых поднятий и приокеанических желобов, вытянутая вдоль Шпицбергенско-Североземельского материкового склона, развивается в кайнозое (параллельно с раскрытием Евразийского суббассейна) автономно вне всякой связи с предшествующими этапами. Для изучения соотношения двух главных неотектонических факторов на рис. 4 по оси ординат (Ф1) наносились условные значения интенсивности новейших погружений, а по оси абсцисс (Ф2) - унаследованности неотектонического режима. Отрицательные значения обоих факторов соответствуют зонам автономных неотектонических и/или гляциоизостатических поднятий, а положительные - районам унаследованных опусканий. Как области молодых высокоамплитудных погружений, наложенных на древний структурно-тектонический план, выделяются материковые склоны и краевые грабен-желоба Франц-Виктория, Святой Анны и Воронина, что подтверждает мысль о связи последних с процессами кайнозойского океанообразования, а также Восточно-Новоземельский желоб. Баренцево-Северокарский мегапрогиб выделяется, напротив, как область стабильного унаследованного опускания. Внутриматериковые Печорская и Западно-Сибирская плиты характеризуются унаследованным режимом умеренных колебательных движений. На Баренцевоморском шельфе в целом прослеживается большее соответствие кайнозойского структурного плана более древним, чем на Карском, который развивается в новейшее время в существенно автономном режиме. На карте распределения нагрузок третьего фактора (рис. 5) по минимальным его значениям выделяются Печорская и Западно-Сибирская внутриматериковые плиты, где новейшие опускания практически полностью компенсированы осадконакоплением. Небольшие значения третьего фактора характеризуют и континентальные склоны Норвежско-Гренландского и Евразийского океанических суббассейнов, что, очевидно, связано с их клиноформным наращиванием и проградацией на океанические плиты в кайнозое. Пониженные значения наблюдаются также близ Кольского п-ова, Скандинавии, Новой Земли, Таймыра и на участках шельфа, прилегающих к краевым архипелагам. Это связано с восходящим режимом новейших движений и, соответственно, интенсивной денудацией. Высокие значения третьего фактора свойственны в целом окраинно-материковой плите, а максимальные значения - наиболее погруженным впадинам и желобам Баренцево-Северокарского мегапрогиба, которые характеризуются явной недокомпенсацией кайнозойских опусканий седиментацией. Это позволяет интерпретировать третий фактор как типичный для атлантических (пассивных) зон перехода, находящихся на юной стадии своего развития [Мусатов, 1996] тектонический режим, которому присущи умеренные, а в рифтогенных грабенах - высокоамплитудные погружения земной коры при явной недокомпенсации опусканий погружением. В результате кластеризации вышеописанных пяти факторов был выделен ряд однородных неотектонических областей, тяготеющих к пяти различным типам морфоструктур континентальной окраины: 1) щиты, возрожденные орогены, выступы складчатого основания плит и их подводные продолжения, стабильно воздымающиеся в позднем кайнозое; 2) поднятия, валы и своды окраинно- и внутриматериковых плит, унаследованно развивающиеся в мезозое и кайнозое при знакопеременных движениях земной коры; 3) унаследованные впадины Баренцево-Северокарского мегапрогиба окраинно-материковой плиты, устойчиво погружающиеся, начиная с триаса и/или позднего палеозоя; 4) возрожденные рифтогенные прогибы и грабены окраинно-материковой плиты, существовавшие в позднем палеозое - мезозое, но пережившие эпоху субаэральных перерывов в позднем мелу и палеогене (Медвежинский, Нордкапский прогибы, отчасти желоб Святой Анны); 5) наложенные грабен-желоба, автономно развивающиеся в кайнозое при господстве нисходящих движений (желоба Франц-Виктория, Воронина, Восточно-Новоземельский). Характерно, что последний кластер охватывает и прилегающие к Баренцево-Карской плите части материковых склонов, свидетельствуя об обрушениях земной коры. Распространение основных кластеров находится в хорошем соответствии с известными схемами неотектонического районирования [Грачев, 1996; Карта новейшей…, 1998; Мусатов, 1990].
Выводы Формализованное исследование глубин залегания опорных отражающих горизонтов осадочного чехла и мощностей кайнозойских отложений позволило сделать следующие выводы. 1. Режим максимального неотектонического воздымания и преимущественной денудации характеризует два пояса, вытянутых в субширотном направлении. Первый из них охватывает Кольский п-ов, Тимано-Канинский выступ, Полярный Урал, Пай-Хой, Новую Землю и Таймыр с прибрежным шельфом, а второй - краевые архипелаги Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Северная Земля, фиксирующие положение плеча рифта на начальных стадиях спрединга в Евразийском суббассейне [Карта новейшей…, 1998]. Оба пояса новейших поднятий смыкаются при сочленении Баренцево-Карской и Лаптевоморской плит у о-ва Большевик, будучи разделены грабеном пролива Вилькицкого. 2. Режим новейшего погружения и интенсивной кайнозойской седиментации характеризует периокеанические прогибы современных материковых склонов и в меньшей степени - грабенообразные структуры шельфа и палеошельфа Западно-Сибирской и Печорской плит. Впадины и рифтогенные грабены осевой части Баренцево-Северокарского мегапрогиба (чьим северо-восточным замыканием служит желоб Святой Анны), разделяющего два региональных пояса новейшего воздымания, также испытывают устойчивые опускания в кайнозое, но последние обычно некомпенсированы осадконакоплением. 3. Унаследованными неотектоническими структурами являются впадины, прогибы и рифтогенные грабены окраинно- и внутриматериковых плит. Краевое шельфовое поднятие, вытянутое вдоль Шпицбергенско-Североземельского континентального склона, автономно развивается в кайнозое вне всякой связи с мезозойским и более древними структурно-тектоническими планами, отражая, видимо, процесс формирования Евразийского океанического суббассейна и компенсационного воздымания плеча трога. Краевые желоба Франц-Виктории, Британского Канала, Воронина и др. также являются наложенными морфоструктурами. Ряд валов и прогибов на севере Карского моря испытал инверсию в позднем кайнозое. 4. Современные шельфы материковых окраин, расположенных по периферии молодых спрединговых бассейнов, испытывают явную недокомпенсацию новейших погружений, которая является характернейшей чертой их развития в кайнозое. Есть все основания полагать, что недокомпенсация прогибаний осадконакоплением вообще свойственна всем пассивным окраинам на начальных стадиях их эволюции, когда зоны перехода континент-океан занимают огромную площадь, характеризуются наличием переуглубленных рифтогенных грабенов (на других атлантических окраинах они обычно погребены в кровле акустического фундамента) и испытывают существенный дефицит осадков. Последние захораниваются почти исключительно на материковых подножьях, хотя конкретное распределение мощностей молодых отложений, конечно, зависит и от удаленности областей сноса. 5. Выявленная циркумокеаническая зональность неотектонического режима Баренцево-Карской зоны перехода отражает сложное чередование условий сжатия и растяжения континентальной окраины, возникавших при последовательном проникновении срединно-океанического хребта Гаккеля из Северной Атлантики в Норвежско-Гренландский и Евразийский суббассейны [Грачев, 1996; Карта новейшей…, 1998] и спрединге океанического дна.
Список литературы 1. Аветисов Г.П. Сейсмоактивные зоны Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 1996. 185 с. 2. Ассиновская Б.А. Сейсмичность Баренцева моря. М., РАН, Нац. Геофиз. комитет, 1994. 128 с. 3. Баренцевская шельфовая плита /под ред. И.С.Грамберга. Л., Недра, 1988. 264 с. 4. Батурин Д.Г. Строение и эволюция континентальной окраины Евразийского бассейна между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа // Доклады академии наук СССР. 1988. Т. 299. № 2. С. 419-423. 5. Верба М.Л., Павленкин А.Д., Дараган-Сущова Л.A. Рифтогенные структуры Западно-Арктического шельфа по данным КМПВ // Советская геология. 1990. № 12. С. 36-47. 6. Волк В.Э., Ершов Ю.П., Кадмина И.Н. Основные черты глубинного строения южной части Баренцева моря по геофизическим данным // Геофизические методы разведки в Арктике. Л., НИИГА, 1973. Вып. 8. С. 7-15. 7. Грачев А.Ф. Основные проблемы новейшей тектоники и геодинамики Северной Евразии // Физика Земли. 1996. № 12. С. 5-36. 8. Гриценко И.И., Крапивнер Р.Б. Новейшие отложения Южно-Баренцевского региона, осадочные (седиментационные) сейсмостратиграфические комплексы и их вещественный состав // Новейшие отложения и палеогеография северных морей. Апатиты, КФ АН СССР, 1989. С. 28-45. 9. Гуревич В.И., Мусатов Е.Е. Новейшее осадконакопление и фанерозойская конседиментация на Западно-Арктическом шельфе // Проблемы кайнозойской палеоэкологии и палеогеографии морей Северного Ледовитого океана. М., Наука, 1992. С. 47-53. 10. Дибнер В.Д. Морфоструктура шельфа Баренцева моря // Тр. НИИГА. Л., Недра, 1978. Т. 185. 211 с. 11. Зархидзе B.C. Новейший этап развития Арктического шельфа // Геология и геоморфология шельфов и материковых склонов. М., Наука, 1985. С. 58-65. 12. Карта новейшей тектоники Северной Евразии. М-б 1:5 000 000 / под ред. А.Ф. Грачева. М., Инст. планет. геофизики ОИФЗ РАН, ГЕОС, 1998. На 12 листах, текст объясн. зап. 147 с. 13. Карта рельефа поверхности складчатого фундамента Арктических морей СССР и сопредельных территорий / под ред. И.С. Грамберга, Ю.М. Пущаровского. М-б 1:500 000. М., Мингео СССР, 1986. 14. Крапивнер Р.Б. Бескорневые неотектонические структуры. М., Недра, 1986. 204 с. 15. Лопатин Б.Г., Мусатов Е.Е. Сейсмостратиграфия неоген-четвертичных отложений Западно-Арктического шельфа // Советская геология. 1992. № 6. С. 56-61. 16. Мусатов Е.Е. Развитие рельефа Баренцево-Карского шельфа в кайнозое // Геоморфология. 1989. № 3. С. 76-84. 17. Мусатов Е.Е. Неотектоника Баренцево-Карского шельфа // Известия ВУЗов. Геология и разведка. 1990. № 5. С. 20-27. 18. Мусатов Е.Е. Неотектоника Арктических континентальных окраин // Физика Земли. 1996. № 12. С. 72-78. 19. Мусатов Е.Е. Неотектонические критерии нефтегазоносности Баренцево-Карского шельфа // Известия ВУЗов. Геология и разведка. 1997. № 3. С. 43-51. 20. Мусатов Е.Е. Геоморфология северной окраины Баренцевоморского шельфа между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа // Геоморфология. 1997. № 1. С. 72-77. 21. Мусатов Е.Е., Мусатов Ю.Е. Морфоструктура зоны сочленения Восточно-Новоземельского и Байдарацкого желобов // Вестник СПбУ. Сер. 7, геология, география. 1992. Вып. 1. С. 51-59. 22. Осадочный чехол Западно-Арктической метаплатформы (тектоника и сейсмостратиграфия) / Е.Ф. Безматерных, Б.В. Сенин, Э.В. Шипилов и др. Мурманск, НИИМорГеофизика, 1993. 184 с. 23. Погребицкий Ю.Е. Раскрытие Северного Ледовитого океана и сопутствующие геологические процессы на окружающих континентах // Региональная геология и металлогения. 1997. № 7. С. 129-136. 24. Рыжов И.Н. Неотектоника Европейского севера СССР. Л., Наука, 1988. 92 с. 25. Сенин Б.В., Шипилов Э.В. Древние массивы и межевые тектонические зоны северного обрамления Балтийского щита (Баренцево море) // Проблемы кайнозойской палеоэкологии и палеогеографии морей Северного Ледовитого океана. М., Наука, 1992. С. 29-36. 26. Сенин Б.В., Шипилов Э.В., Юнов А.Ю. Тектоника Арктической зоны перехода от континента к океану. Мурманск, Мурм. кн. изд., 1989. 278 с. 27. Тектоническая карта Баренцева моря и северной части Европейской России / под ред. Н.А. Богданова, В.Е. Хаина. М-б 1:2 500 000. М., Ин-т литосферы РАН, 1996. Объясн. зап. 94 с. 28. Antonsen P., Elverhoi A., Dypvik Н., Solheim A. Shallow bedrock geology of the Olga Basin Area, Nortwestern Barents Sea // The Amer. Assoc. of Petroleum Geologists Bull., 1991. V. 75. № 7. P. 1178-1194. 29. Atlas of East Barents Shelf Geology (Shipelkevitch Yu.V. et al.) S.Petersburg, VNIIOceangeology, 1994. 170 p. 30. Bathymetry of the Barents and Kara Seas (Cherkis N.Z., Fleming H.S., Max M.D. et al.) Naval Research Laboratory, Washington, 1991. Sheet 1. 31. Eldholm O., Faleide J.I., Myhre A.M. Continent-ocean transition at the Western Barents Sea / Svalbard continental margin // Geology. 1987. № 15. P. 1118-1122. 32. Elverhoi A. Solheim A. The physical environment. Western Barents Sea. 1:1 500 000 . Sheet A. Surface sediment distribution // Norsk Polarinstitutt Skrifter. Oslo, 1983. V. 179A. 23 p. 33. Elverhoi A., Antonsen P., Flood S.B., Solheim A., Vullstad A.A. The physical environment. Western Barents Sea, 1:1 500 000. Shallow bedrock geology - structures, litho- and biostratigraphy // Norsk Polarinstitutt Skrifter. Oslo, 1988. V. 179D. 44 p. 34. Faleide J.I., Gudlaugsson S.T., Jackuart G. Evolution of the Western Barents Sea // Marine Petroleum Geology, 1984. V. 1. P. 123-150. 35. Knutsen S.-M., Richardsen G., Vorren Т.О. Late Miocene-Pleistocene sequence stratigraphy and mass-movements on the Western Barents Sea margin // Arctic Geology and Petroleum Potential (eds. Т.О. Vorren et al.). Norweg. Petrol. Soc., Elsevier, Amsterdam, 1993. P. 573-606. 36. Kristoffersen Y., Milliman J.D., Ellis J.P. Uncosolidated sediments and shallow structure of the Nothern Barents Sea // Norsk Polarinstitutt Skrifter. Oslo, 1984. V. 180. P. 25-39. 37. Matishov G.G., Cherkis N.Z., Vermillion M.S., Forman S.L. Bathymetric Map of the Franz Josef Land Area. Geol. Soc. of America, Boulder, Colorado. 1995. Sheet 1. 38. Skagen J.I. Effects on hydrocarbon potential caused by Tertiary uplift and erosion in the Barents Sea // Arctic Geology and Petroleum Potential (eds. T.O.Vorren et al.). Norweg. Petrol. Soc., Elsevier, Amsterdam, 1993. P. 711-719. 39. Solheim A., Kristoffersen Y. Sediments above the upper regional unconformity: thickness, seismic stratigraphy and outline of the glacial history // Norsk Polarinstitutt Skrifter. Oslo, 1984. V. 179B. P. 3-36. 40. The Geology of Franz Josef Land and Northernmost Barents Sea // Norsk Polarinstitutt Meddelelser (coeditors A.Solheim, E.Musatov, N.Heintz). № 131. Oslo, 1998. 180 p. 41. Zarchidze V.S., Musatov E.E., Generalov P.P. Norwegian, Barents and Kara Seas. Cenozoic // Paleogeographical Atlas of the Shelf Regions of Eurasia for the Mesozoic and Cenozoic (eds. M.N.Alekseev, I.S.Gramherg, Yu.M.Pustcharovsky). G.B., Robertson Group Plk., 1991. V. 2. 13.18-13.35.
Musatov Е.Е. Statistic model of the upper part of the sedimentary cover of the Barents & Kara Seas Shelf // Geological-geophysical features of the lithosphere of the Arctic Region. St.Petersburg, VNIIOkeangeologia, 1998. № 2. P. 118-131.
Statistic model of the depths of basic seismic reflectores of Barents & Kara Seas Shelf was developed for evaluation of regime of Mesozoic-Cenozoic earth crust movements. Correlation, factore and cluster analyses were carried out: first factor corresponds to intensity of subsidence, second factor coincides to inheritance of tectonic regime and third factor reflects non-compensation of submergence by sedimentation. Maximal inherited submergence characterises the axial part of Barents-Northern Kara megadepression. A number of riftogenous grabens were newly formed during Cenozoic. Stable moderate movements of Pechora and West Siberian intra-continental plates are contrasting with strong subsidence of Barents-Kara continental-margin plate. Noncompensation of submergences by sedimentation is the most remarkable feature of tectonic regime of passive continental margins during early stage of their evolution.
|
|
Ссылка на статью: Мусатов Е.Е. Статистическая модель верхней части осадочного чехла Баренцево-Карского шельфа // Геолого-геофизические характеристики литосферы Арктического региона. СПб., ВНИИОкеангеология, 1998. Вып. 2. С. 118-131. |
![]()