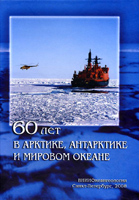| ||
|
УДК 547.9:551.35(268-191.2)
(ФГУП
"ВНИИОкеангеология")
|
|
Глубоководная часть СЛО, как конечный бассейн седиментации, содержит в своих отложениях стратифицированную последовательность вариаций потоков осадочного вещества, обусловленных, в частности, позднекайнозойскими климатическими изменениями [Schubert & Stein, 1997; Лисицын, 1994; Kassens et al., 1999]. С другой стороны, СЛО является ключевым регионом для понимания путей формирования глобальной климатической системы и возможных ее изменений в ближайшем будущем. Необходимым звеном исследований в данном направлении является изучение рассеянного органического вещества (РОВ) пород рыхлого чехла и его компонентов (Сорг, ГК, БитА), маркирующих потоки морского, определяемого биопродуктивностью, и терригенного осадочного материала и, как следствие, отражающих смену условий осадконакопления [Романкевич, 1977; Органическое..., 1990; Романкевич, Ветров, 2001; Stein & Macdonald, 2004]. Еще более углубленную геохимическую информацию позволяет получить исследование состава РОВ на уровне молекулярных структур (молекулярных маркеров). Вариации состава молекулярных маркеров по стратиграфическому разрезу позволяют судить не только об интенсивности и направленности диагенетических преобразований ОВ в процессе осадкообразования, но и способствует пониманию долгопериодных изменений в глобальном цикле углерода, устанавливая смену биологических источников исходного органического материала [Чахмахчев, Виноградова, 2003; Stojanovic et al, 2001; Duan & Ma, 2001]. В качестве специфических молекулярных маркеров могут выступать алифатические углеводороды алканового ряда, для состава которых в терригенном РОВ характерно преобладание высокомолекулярных (long-chain) C27-C31, а для гидробионтного РОВ - низкомолекулярных (short-chain) C17-C19 соединений. Глубину преобразования РОВ отражает соотношение четных и нечетных гомологов в составе н-алканов, так называемый индекс нечетности (ОЕР), составляющий для нативного ОВ величины 3-5, а для преобразованного около 1 [Eglinton et. al., 1969; Brassel et. al., 1987; Venkatesan et al., 1982, 1987; Yunker, 1993]. Реликтовые биомаркеры циклического строения (стераны, гопаны, ароматические цикланы), наследующие углеводородный скелет биогенных предшественников служат «биологическими метками» или «хемофоссилиями», и дают информацию для генетических и литофациальных реконструкцией [Eglinton & Murphy, 1969; Peters & Moldowan, 1994; Bastow et al, 2001; Hautevelle et al, 2006; Greenwood et al, 2006]. В частности, биогенными предшественниками гопанов являются тритерпеноиды, содержащиеся в клеточных мембранах (гопены, гопаноиды). На стадии седиментогенеза и раннего диагенеза образуются биогенные гопаны (ββ-гопаны). На более глубокой (постдиагенетической) стадии зрелости ОВ происходит структурная трансформация гопанов с формированием αβ- и βα-гопанов (диагенетические гопаны). Для гопанов состава С31-С35 происходит также изомеризация энантиомеров конфигурации R в конфигурацию S. Сравнительное изучение состава и распределения РОВ донных отложений евразийской и амеразийской континентальной окраины позволяет оценить вклад различных источников осадочного материала (речной сток, турбидитные потоки, океанские вдольсклоновые течения, субаквальный размыв и переотложение коренных пород) в формирование современного осадочного чехла СЛО. Объектом данного исследования являлись осадочные отложения, отобранные на меридиональном профиле вдоль поднятия Менделеева от континентального склона до 82° с.ш. (профиль 1) (рис. 1). В качестве объекта сопоставления привлечены образцы, отобранные на профиле: северная часть шельфа моря Лаптевых - котловина Амундсена - центральная часть СЛО (профиль 2). Материалы и методы
Образцы донных отложений (НИС «Академик Федоров»,
Аналитическая процедура изучения РОВ включала: определение элементного (Сорг, Скарб, Nopг) состава, экстракцию битумоидов, определение их группового состава, хроматографическое фракционирование битумоидов с выделением суммы УВ, ГХ-МС анализ н-алканов, цикланов и ПАУ.
Определение содержания в осадках органического (Сорг) и
карбонатного (Скарб) углерода проводили методом химического
сжигания по Кнопу. Анализ фракций УВ проводили методом ГХ-МС
на приборе
Hewlett
Packard
6850/5973 с квадрупольным масс-детектором и программным комплексом
обработки аналитической информации. Данная методика прошла
интеркалибровку в Обсуждение результатов. Общая геохимическая характеристика ОВ донных отложений Профиль 1 берет начало на границе континентальный шельф - терраса Кучерова и проходит вдоль основной гряды поднятия Менделеева (рис. 1). В геоморфологическом отношении поднятие Менделеева в целом можно подразделить на систему погружающихся ступеней [Кабаньков и др., 2004]. Гранулометрический анализ показал, что в осадках преобладают пелиты и алевритистые пелиты, наряду с которыми присутствуют пески и гравелиты, наиболее выраженные в отложениях северной части меридионального разреза (АФ-05-09, АФ-00-08). Литологические исследования и анализ литодинамических процессов позволяют предположить, что формирование осадочных отложений в данном районе происходит путем седиментации взвеси, наряду с перемывом и переотложением местного материала. При этом в пределах южной части поднятия Менделеева наблюдается широкое распространение современных элювиально-делювиальных отложений. В северной части поднятия возрастает роль процессов перемыва с формированием более грубозернистых осадков. Распределение основных компонентов РОВ определяется как литологическим составом осадочного материала, так и его природой. В изученных осадках поднятия Менделеева, несмотря на выдержанность гранулометрического состава, содержание Сорг и битумоидов в осадках южной части профиля (АФ-05-02) в среднем более чем ввдвое превышает значения, наблюдаемые в осадках его северной части (АФ-05-09, АФ-00-08) (рис. 1), что обусловлено, как правило, меньшей глубиной преобразования РОВ и может быть связано с интенсивным поступлением в осадки подножия континентального склона современного шельфового осадочного материала. Вариации содержания Сорг и битумоидов в осадочном разрезе согласуется с изменениями литологического состава осадков, что указывает на генетическую общность последних с содержащимся в них РОВ, и отражает возможные изменения фациальных условий осадконакопления. В осадках северной части меридионального профиля (АФ-05-09, АФ-00-08) распределение РОВ практически неизменно по всему стратиграфическому разрезу. Содержание карбонатного углерода в осадочных отложениях варьирует в значительных пределах от 0,01 до 3,99%, что превышает дисперсию и абсолютные значения данного параметра для шельфовых осадков восточно-арктического региона [Романкевич и Ветров, 2001]. На меридиональном профиле практически бескарбонатные разности Скарб< 0,05% южной части разреза сменяются в северном направлении осадками, содержащими значительное количество обломочного карбонатного материала (1-4%), что наглядно свидетельствует о снижении роли шельфового осадочного материала в формировании рыхлых отложении изученного района. В осадках северной части поднятия Менделеева в стратиграфическом разрезе наблюдается ряд максимумов содержания Скарб (рис. 1), приуроченных к прослоям или линзам известковистых пелитов розового и светло-бежевого цвета, иногда с обломками раковинного детрита. Синхронно возрастают содержания песчаной фракции (в среднем на порядок) и планктонных фораминифер, обусловленные, по-видимому, сменой палеогеографических условий осадконакопления. Совокупность литологических, микропалеонтологических и геохимических данных указывает на биогенно-обломочную природу карбонатов. Распределение органического углерода в осадочном разрезе не коррелирует с карбонатностью, что указывает на различные источники их поступления. Резкое снижение содержания Сорг в северной части меридионального профиля обусловлено низкими скоростями осадконакопления, незначительным поступлением свежего органического материала и/или его глубокой преобразованностью. Не превышая в верхних горизонтах 0,25%, содержание Сорг резко убывает уже на первых сантиметрах осадочного разреза, снижаясь далее до практически следовых величин (0,10-0,01%). Содержание органического азота (Nорг) в изученном осадочном разрезе не превышает 0,10%, составляя в среднем 0,05%. Столь низкие значения характерны для осадков абиссальных областей Тихого и Атлантического океанов [Романкевич, 1977] и свидетельствуют о глубокой степени преобразования исходного РОВ. Отношение C/N для всех изученных образцов варьирует в узком диапазоне 1,3-5,3, составляя в среднем 2,1, что не типично для четвертичных отложений арктического региона, где даже в глубоководных осадках котловин Макарова, Амундсена и на хребте Ломоносова [Cranston, 1997] минимальное значение C/N = 7,3. Специфика РОВ донных отложений поднятия Менделеева находит отражение и в его групповом составе. Так, содержание в них нерастворимых компонентов значительно выше, чем в осадках шельфа и глубоководных котловин восточно-арктического региона [Органическое..., 1990] и составляет более 95%. В составе растворимых компонентов отсутствуют гуминовые кислоты (ГК), а липидная фракция (битумоид Ахл) представлена преимущественно неполярными соединениями. Данные особенности геохимических параметров РОВ могут быть обусловлены значительным вкладом глубоко преобразованного осадочного материала в формирование рыхлых отложений поднятия Менделеева. По данным ряда публикаций последних лет, не исключено также незначительное поступление гидробионтного ОВ с атлантическими и/или тихоокеанскими водными массами [Stein etal, 1999; Kosobokova, Hirche, 2000; Матуль и др. 2007]. Вместе с тем, эти поставки, по-видимому, не могут носить определяющий характер, поскольку хребет Ломоносова является барьером в циркуляции водных масс Евразийского бассейна [Cranston, 1997, Kosobokova, Hirche, 2000, 2005], а влияние тихоокеанских водных масс не распространяется на данный район Амеразийского бассейна [Stein et al., 1999].
Еще одним возможным источником исходного ОВ могут быть гидробионтные
биопродуценты (фито- и зоопланктон). Однако, проведенные набортные
исследования водной толщи (НЭС «Академик Федоров», Профиль 2 (рис. 1) берет начало на кромке континентального шельфа севернее Новосибирских островов (море Лаптевых), пересекает континентальный склон и проходит вдоль западного склона хребта Ломоносова до центральной части котловины Амундсена в районе Северного полюса. Основной поток осадочного материала в этом районе контролируется мощным выносом речного стока и трансполярным дрейфом (Transpolar Drift) [Лисицын, 1994а, 1994б; Kassens et al., 1999]. Изменения состава органического вещества на разрезах река-море, отражая последовательность перехода от дельтово-эстуарных осадков к морским, позволяют оценить интенсивность и масштабы терригенного влияния на прилегающую акваторию (рис. 2). В мористом направлении наблюдается снижение содержания в осадках органического вещества, битумоидов, гуминовых кислот и углеводородов, возрастает полимеризованность органического материала, о чем свидетельствует увеличение доли остаточного органического вещества (ООВ). [Органическое..., 1990]. В составе углеводородов отмечается рост ароматических и утрата алифатических (Me-Nf) структур. Осадочные отложения, отобранные на профиле 2, в полной мере соответствуют характерным для данного района литофациальным условиям осадконакопления. Осадки южной части разреза (АФ-05-29), приуроченные к кромке континентального шельфа и представленные монотонной толщей алевропелитов (от серых до почти черных), являются типичными шельфовыми отложениями, обогащенными органическим веществом и сформированными в восстановительных условиях. Бескарбонатные (Скарб < 0,05%), обогащенные Сорг (>1%) и битумоидными компонентами (до 500 мкг/г) разности отражают значительный масштаб поступления в этот район гумусового осадочного материала.
В осадочном разрезе зоны континентального склона (АФ-05-31) и его
подножия (АФ-05-33) интенсивное влияние терригенного сноса в целом
сохраняется (Скарб
<0,01, Сорг = 0,50-0,80%) несколько нивелируясь лишь в осадках
центральной части котловины Амундсена (АФ-05-34), где в осадочном
разрезе чередуются бескарбонатные и слабокарбонатные (Скарб
до 0,20%) прослои с фоновым для глубоководной части СЛО содержанием Сорг
(< 0,40%). Полученные результаты согласуются с данным, приведенным в
работе [Belicka et
al., 2002],
согласно которым в донных осадках, отобранных на Северном полюсе,
фиксируется ОВ смешанного гидробионтно-терригенного генезиса (C/N
< 10). Углеводородные молекулярные маркеры в донных отложениях Предшествующие исследования донных отложений восточно-арктического шельфа [Petrova et al., 2004] показали, что в целом по акватории в составе углеводородов устойчиво доминируют метано-нафтеновые структуры (80-90%), что свойственно современным осадкам, содержащим слабопреобразованное органическое вещество. Однообразие состава УВ для осадков различных фациальных зон позволяет предположить единый генезис ОВ, а соответствие геохимических параметров осадков и обнаруженных в них растительных остатков тундровых макрофитов подтверждает его преимущественно гумусовую природу. Сопоставление состава алкановых молекулярных маркеров поверхностных шельфовых осадков и остатков макрофитов также свидетельствуют о значительной роли наземной растительности в составе ОВ (С15-19/С25-31 = 0,19-0,39 при ОЕР для С27,29 = 2-4). Маркеры гидробионтов наблюдаются лишь в осадках континентального склона и в зоне Великой Сибирской полыньи, севернее и северо-западнее Новосибирских островов. Это согласуется с обнаружением в этих районах продуктов деградации диатомовых микроорганизмов и динофлагелят - жирных кислот состава 16:1 (n-7) и 20:5(n-3) [Stein et. al., 1999; Fahl, Stein, 1997]. В осадочном разрезе голоцен-плейстоценовых отложений шельфовой зоны характер распределения алкановых УВ также свидетельствует о преимущественно гумусовой природе ОВ, низком уровне его диагенетической зрелости и стабильных условиях осадконакопления (н-С17/29< 1, ОЕР27-31 > 2). Состав циклических молекулярных маркеров подтверждает преимущественно терригенный генезис и низкий уровень трансформации ОВ (для гопанов: Ts/Tm < 0,30; 22S/22R+22S = 0,17; для стеранов С29/С27 =1,5; 20S/ 20R+20S = 0,38) [Peters, Moldowan, 1994]. В составе полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) преобладают перилен и алкилгомологи хризена, маркирующие поток терригенного осадочного материала. Представление о региональном фоне распределения углеводородных маркеров в осадках восточно-арктического шельфа создает основу для корректного рассмотрения аналитических данных, полученных в рамках данной работы. Профиль 1 В осадочном разрезе южной части поднятия Менделеева (АФ-05-02, АФ-05-05) бимодальное распределение н-алканов свидетельствует о смешанном генезисе и двух основных источниках РОВ (рис. 3). Высокомолекулярные (С27-31) соединения с относительно высоким индексом нечетности (ОЕР > 3) маркируют поток гумусового осадочного материала, поступающего с шельфа Восточно-Сибирского моря. Низкомолекулярные (С17-19) н-алканы с низким индексом нечетности (ОЕР < 1) свидетельствуют об участии в формировании состава осадков глубоко преобразованного РОВ осадочных пород. При этом в северной части меридионального профиля роль преобразованного материала заметно возрастает. Вариации соотношения современного и преобразованного РОВ по осадочному разрезу, по-видимому, соответствует режиму осадконакопления в данный геологический период и отражает изменение масштабов поступления шельфового (С17-19/ С27-31 >0,5) и местного переотложенного (С17-19/ С27-31 < 0,4) осадочного материала. Характер распределения тритерпеноидных биомаркеров также отражает последовательное снижение в северном направлении доли современного гумусового материала, поступающего с шельфа, и увеличение относительного содержания глубоко преобразованного материала древних осадочных пород. Так, в осадочном разрезе южной части меридионального профиля (ст. АФ-05-02) средние значения гопановых коэффициентов зрелости соответствуют диагенетической и постдиагенетической стадии преобразования РОВ (рис. 3). В северном направлении показатели уровня зрелости РОВ закономерно возрастают и достигают значений, характерных для пород, содержащих катагенетически преобразованное OB [Peters, Moldowan, 1994; Каширцев, 2003]. Наиболее отчетливо это проявляется в осадочных отложениях северной оконечности меридионального профиля (ст. АФ-00-08). Здесь, в составе н-алканов по всему стратиграфическому разрезу доминируют низкомолекулярные соединения с низким значением индекса нечетности (рис. 3). Коэффициенты, отражающие степень преобразованности тритерпановых УВ, свидетельствуют о катагенетическом уровне зрелости ОВ (для гопанов: Ts / Tm =0,73, 22S/22R+22S=60; для стеранов: 20S/20R+20S = 0,48). В составе полиароматических углеводородов (ПАУ) доминируют фенантрен и его алкилгомологи, характерные компоненты сапропелевого ОВ. Маркеры терригенного ОВ не зафиксированы. Подобный характер распределения углеводородных маркеров не наблюдался ранее в глубоководных осадках арктического региона. В осадках, отобранных в котловинах Нансена, Амундсена и Подводников у подножия континентального склона и в зонах сочленения с хребтами Гаккеля и Ломоносова, распределение н-алканов отражало доминирование в осадках слабопреобразованного гидробионтного ОВ (н-Сmax = C15-17, ОЕР>1), обнаружение которого находится в полном соответствии с данными о поступлении в эти районы вдоль континентального склона атлантических вод. Терригенные компоненты, содержание которых существенно ниже, чем в шельфовых разностях, тем не менее фиксируются во всех глубоководных осадках. Дальний гидросферный и аэрозольный перенос терригенного ОВ даже в абиссальные районы океанских котловин отмечался в значительном числе публикаций [Venkatesan, Kaplan, 1987; Органическое..., 1990; Fahl, Stein, 1997; Stein et al, 1999]. Лишь в районах с интенсивной первичной биопродуктивностью терригенная составляющая в значительной мере маскируется мощным потоком продуктов жизнедеятельности гидробионтов. Район поднятия Менделеева не может быть отнесен к зонам повышенной первичной биопродукции, о чем наглядно свидетельствуют полученные нами данные по содержанию хлорофилла в поверхностных водах данного района. Следовательно, отсутствие в осадочных отложениях данного района отчетливо выраженных следов терригенного ОВ не является тривиальным. Профиль 2 В осадочных отложениях кромки континентального шельфа моря Лаптевых (АФ-05-29) в распределении н-алканов преобладают молекулярные маркеры гумусового ОВ, устойчиво доминируя во всем стратиграфическом разрезе (С17-19/ С27-31 =0,1-0,3) (рис. 4). Высокое значение ОЕР (>4), достигающее в отдельных прослоях аномальных значений (до 7, 8), свидетельствует о низкой степени диагенетической зрелости ОВ и ведущей роли речного стока в поставке в этот район осадочного материала. Данное заключение согласуется с приуроченностью изученных отложений к палеоруслу реки Яна - одной из основных транзитных зон лаптевоморского шельфа. Минимальная степень преобразованности ОВ в ряде горизонтов осадочного разреза может быть связана с изменением гидродинамического режима и/или приближением источников сноса в ходе регрессии. В осадках подножия континентального склона (АФ-05-31) низкий уровень преобразованности и преимущественно терригенный состав ОВ также сохраняется во всем стратиграфическом разрезе. И лишь в глубоководных отложениях, отобранных на западном склоне хребта Ломоносова, фиксируются маркеры гидробионтного ОВ, играющего однако сугубо подчиненную роль (рис. 4). Низкое значение индексов нечетности гидробионтных н-алканов, т.е. высокая степень их трансформации, свидетельствует либо о дальнем их переносе, возможно океанскими атлантическими водами, либо об интенсивной биодеградации in situ в период дегляциации. Бимодальное распределение н-алканов в осадках северной части разреза, приуроченных к району Северного полюса (АФ-05-34), указывает на смешанный гумусово-гидробионтный генезис ОВ, с преобладанием терригенной составляющей. Сохранение высоких значений индексов нечетности гумусовых молекулярных маркеров может быть обусловлено низкой интенсивностью процессов постседиментационной трансформации органической составляющей осадков в полярных условиях. В то же время, это является свидетельством устойчивой и интенсивной поставки в позднем кайнозое в глубоководную часть арктического бассейна шельфового осадочного материала. Об этом же свидетельствует и распределение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в составе которых преобладают перилен и алкилгомологи хризена, маркирующие поток терригенного осадочного материала. Следует отметить, что значительная роль гумусового ОВ в донных отложениях глубоководной зоны СЛО наблюдается как в котловинах, так и на поднятиях [Stein et al, 1999]. Данная информация лишний раз подчеркивает своеобразие ОВ осадочных отложений северной части поднятия Менделеева, в которых гумусовые компоненты практически отсутствуют. Анализ состава и распределения в осадках гопанов и гопаноидов также свидетельствует о низкой степени преобразования ОВ. На это указывает преобладание в их составе биогенных гопенов и ββ-изомеров, а также низкие величины гопановых коэффициентов зрелости (рис. 4), соответствующих стадии раннего диагенеза. Лишь в осадочном разрезе отложений центральной части котловины Амундсена (AF-05-34) показатели зрелости ОВ достигают значений, характерных для постдиагенетической стадии преобразования, наблюдавшихся в осадках южной части поднятия Менделеева. Отложений, достигших катагенетической стадии зрелости, в данном районе не обнаружено. Выводы В результате проведенных исследований показана ведущая роль терригенного материала в формировании рыхлого осадочного чехла восточной части СЛО в позднем кайнозое, наиболее ярко выраженная для восточно-евразийской части арктического бассейна, вплоть до зоны Северного полюса. Сравнительный анализ выявил принципиальное различие геохимических параметров четвертичных отложений восточно-арктической континентальной окраины и поднятия Менделеева, ОВ которых не типично для современных донных отложений и, скорее, характерно для глубокопреобразованных осадочных пород. Принимая во внимание многообразие факторов, определяющих композиционный состав ОВ осадочных отложений и, соответственно, статистический характер значений геохимических параметров, можно говорить лишь о преобладании тех или иных компонентов. Комплекс полученных данных позволяет заключить, что в формировании плейстоцен-голоценовых отложений осевой части поднятия Менделеева значительную роль играют древние осадочные породы, содержащие генетически однородное и глубокопреобразованное ОВ, достигшее уровня мезокатагенеза [Каширцев, 2003]. Авторы выражают искреннюю признательность сотрудникам ИНГГ СО РАН и лично академику А.Э. Конторовичу за практическую помощь и ценные научные консультации при выполнении данного исследования. Список литературы
Бардовский
O.K. Аккумуляция и трансформация органического вещества в морских
осадках. М.: Недра, 1964. Кабаньков В.Я., Андреева И.А., Иванов В.В., Петрова В.И. О геотектонической природе системы центрально-арктических морфоструктур и геологическое значение донных осадков в ее определении // Геотектоника. 2004. №6. С. 33-44.
Каширцев В.А.
Органическая геохимия нафтидов востока Сибирской платформы / Отв. ред.
А.Э. Конторович. Якутск: ЯФ СО РАН, 2003. 160 с. Лисицын А.П., Шевченко В.П., Виноградов М.Е. и др. Потоки осадочного вещества в Карском море и в эстуариях Оби и Енисея // Океанология. 1994. Т. 34, № 5. С. 748-758. Лисицын А.П. Маргинальный фильтр океанов // Океанология. 1994. Т.34, №5.
Матуль А.Г., Хусид Т.А., Мухина В.В., Чеховская М.П., Сафарова С.А.
Современные и позднеголоценовые природные условия на шельфе
юго-восточной части моря Лаптевых по данным микрофоссилий //
Океанология. 2007. Т. 47, №1. С. 90-101.
Нарышкин Г.Д.
Орографическая карта Арктического бассейна. СПб.: ГУНиО,
ВНИИОкеангеология, 1995.
Органическое
вещество
донных отложений полярных зон Мирового океана. Л.: Недра, 1990. 280 с. Романкевич Е.А. Геохимия органического вещества в океане. М.: Наука, 1977. 256 с.
Романкевич Е.А., Ветров А.А.
Цикл углерода в арктических морях России. М.: Наука, 2001. 302 с.
Романкевич Е.А., Данюшевская
A.M.,
Беляева А.Н., Русанов В.Н.
Биогеохимия органического вещества арктических морей. М.: Наука, 1982.
239 с.
Чахмахчев В.А., Виноградова Т.Л.
Геохимические показатели
фациально-генетических типов исходного органического вещества //
Геохимия. 2003. №5. С. 554-560. Bastow
T.P.,
Singh
R.K.,
van
Aarssen
B.G.K.,
Alexander
R.,
Kagi
R.I.
2-Methylretene
in
sedimentary
material:
a
new
higher
plant
biomarker
//
Organic
Geochemistry.
2001. 32. P. 1211-1217. Belicka L., Macdonald R.W., Harvey H.R.
Sources and transport of organic carbon to shelf, slope and basin
surface sediment of the Arctic Ocean // Deep-Sea Research. Brassell S., Eglinton G., Howell V.
Paleoenvironmentnl assessment of marine organic-rich sediments using
molecular organic geochemistry // Brooks J., Fleet A. Marine
Petroleum Source Rocks, Geological Society Special Publication. 1987. N
26. P. 79-98. Duan Yi., Ma L.
Lipid geochemistry in a sediment core from Ruoergai Marsh deposit
(Eastern Qinghai-Tibet plateau, Eglinton G., Murphy M.T.J.
Organic Geochemistry: method and results. Fahl K., Stein R.
Modern organic carbon deposition in the Greenwood P.F., Leenheer J.A., McIntyre C,
Berwick L., Franzmann P.D.
Bacterial biomarkers thermally released from dissolved organic matter
// Org. Geochem. 2006. V. 37. P. 597-609. Hautevelle Y., Michels R., Malartre F.,
TrouillerA.
Vascular plant biomarkers as proxies for paleoflora and paleoclimatic
changes at the Dogger / Malm transition of the Juterzenka K.V. and Knicmeier K.
Chlorophyll
a distribution in water column and sea ice during the Laptev Sea
freeze-up study I autumn 1995 // Land-Ocean Systems in the Siberian
Arctic: dynamic and history / H. Kassens (Ed.). Kassens H., Bauch H.A., Dmitrienko I.A.,
Eicken H., Hubberten H.-W., Melles M., Thide J., Timokhov L.A.
(Eds.).
Land-Ocean System in the Siberian Arctic: dynamics and history. Keil R.G., Montlucon D., Prahl F., Hedges
J.I.
Sorptive preservation of labile organic matter in marine sediments
// Nature. 1994. 370. P. 549-552. Kosobokova K.N., Hirche H.-J.
Distribution of Calanus species in the western Arctic Ocean // Abstracts
of the ASLO summer meeting, June 19-24 2005 Kosobokova K.N., Hirche H-J.
Zooplankton distribution across the Lomonosov Ridge, Peters K., Moldowan J.
The biomarker guide. Interpreting Molecular Fossils in petroleum and
ancient sediments. New Jersy, 1994.364 р. Petrova V.I., Batova G.L., Zinchenko A.G.,
Kursheva A.V., Narkevskiy E.V. The East Siberian Sea: Distribution,
sources, and burial of organic carbon // Organic Carbon in Peulve S., Sicre M.-A., Saliot A., De Leeuw
J.W., Baas M.
Molecular characterization of suspended and sedimentary organic matter
in an Arctic Delta // Limnol. Oceanogr. 1996. V. 41(3). P. 488-497. Saliot A., Laureillard J., Scribe P., Sicre
M.A.
Evolutionary trends in the lipid biomarker approach for investigating
the biogeochemistry of organic matter in the marine environment //
Mar. Chemistry. 1992. N 39. P. 235-248. Stein R., Fahl K., Niessen F., Siebold M.
Late quaternary organic carbon and biomarker records from Laptev Sea
continental margin (Arctic Ocean): implication for organic carbon flux
and composition // Land-ocean systems in the Siberian Arctic:
dynamics and History/ H.Kassens. Stojanovic K., Jovancicevic
В.,
Pevneva G.S., Golovko J.A., Golovko A.K., Pfendt P.
Maturity assessment of oils from the Sakhalin oil fields in Russia:
phenanthrene content as a toll // Org. Geochem. 2001. V. 32. P.
721-731. Venkatesan M., Venkatesan M., Kaplan I.
The lipid geochemistry of Antarctic marine sediments: Bransfild strait
// Marine Chemistry 1987. V. 21, N 4. P. 347-375. Venkatesan M., Ruth E., Steinberg S.,
Kaplan I. Organic geochemistry of sediments from the
continental margin off southern New England, USA. 1987. Yunker M.B., Macdonald R.W. et al.
Alkane, terpene and polycyclyc aromatic hydrocarbon geochemistry of the
Mackenzie River and Mackenzie shelf: Riverine contributions to |
|
Ссылка на статью: Петрова В.И., Батова Г.И., Куршева А.В.,
Литвиненко И.В., Короткова Т.А., Дараган О.И. Природа и
источники рассеянного органического вещества донных отложений провинции
Центрально-Арктических поднятий Северного Ледовитого океана. 60 лет в Арктике, Антарктике и Мировом океане (под. ред.
В.Л. Иванова). СПб.: ВНИИОкеангеология, 2008, с. 306-312. |